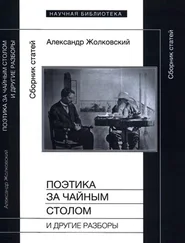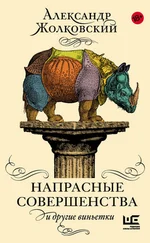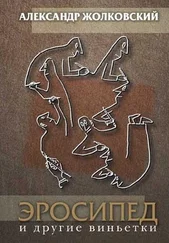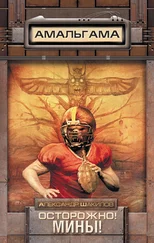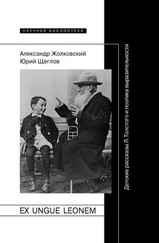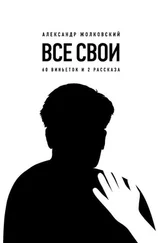Если бы не восторженный прием, оказанный роману русским читателем, и не то в буквальном смысле сногсшибательное действие, которое его ленинский сиквел произвел на Россию, что можно было бы сказать о ЧД? Сочли ли бы мы его заслуживающим нашего исследовательского внимания? В какой-то степени. Мы, возможно, отметили бы многое из вышесказанного и, более того, с удовольствием и сознанием собственного профессионализма констатировали бы мифологическую панхронность его повествования, его сходство – avant la lettre – с авангардным/концептуальным письмом (в том, что касается преобладания волевого дискурсивного жеста над художественной фактурой текста) и другими типами «плохописи». [18] Однако на сегодняшний день самое интересное в ЧД – это его бесспорная и сокрушительная прагматическая эффективность.
Итак, сформулируем наше обвинительное заключение.
Далекая от реализма как в стилистическом отношении, так и в изображении человеческой природы и общества, замешенная на обмане, манипуляторстве, жестокости и воле к власти, книга выдержана в нормативном духе и претендует на социальное программирование в самом широком масштабе, а потому потенциально – в случае успеха у читателей – опасна.
Что делать с такой книгой? Запрещать ее уже запрещали, и ни к чему хорошему это, естественно, не привело. Вообще, как мы видели, дело не столько в самой книге, сколько в читателях, которым оказались созвучны ее идеологические и эстетические предпосылки. Для них, как и для ее автора, были характерны типично русская переоценка роли и функций литературы и типично шестидесятническая (тысяча восемьсот) смесь революционно-научно-фейербаховского материализма с религиозным в своих глубинных основах и навыках мышлением. Так и получилось, что Чернышевский написал, а читатели приняли – на веру и к действию – его утопический катехизис. Значительная и, в конечном счете, решающая часть русской читающей публики удовлетворилась, увы, той дозой проницательности, которую отвел ей автор.
Не то чтобы не доставало предупреждений и контраргументов. Сразу же вслед за ЧД (1863) появились такие изощренные образцы критической обработки текста, как «Записки из подполья» (1864), «Преступление и наказание» (1866), «Бесы» (1872). Это были более или менее прямые опровержения романа Чернышевского (и тем самым косвенные свидетельства его важности). А задолго до ЧД Дружинин написал «Полиньку Сакс» (1847), главная идея которой заключалась в том, что литературным моделям поведения, даже самым прогрессивным (например, разработанным Жорж Санд в ее популярном в те годы «Жаке»), не надо следовать слепо (Кленин 1992) .
Но еще раньше, как мы помним, аналогичный урок чтения был предложен в «Станционном смотрителе». В каком-то смысле Пушкин предвидел печальную историю успеха ЧД.
...
Вырин – «маленький человек», своего рода разночинец. Его роковая ошибка проистекает из некритического чтения. Слишком буквально понимаемый им текст представляет собой популяризованную версию евангельской притчи – сентиментальные картинки с «приличными немецкими стихами» (вспомним фейербаховские корни Чернышевского). Наконец, его упорствование в ошибочной интерпретации текста объясняется не только его интеллектуальной ограниченностью, но и характерной несамостоятельностью – от Дуни, которая заменяет ему жену и мать (является его surrogate wife/mother).
Ненавязчивые уроки пушкинского повествования состоят в демонстрации принципиальной ненадежности человеческого дискурса; в необходимости отказаться от нормативных, предписывающих стратегий письма, чтения и следования прочитанному; в призыве судить о каждом отдельном случае по особым меркам, исходя из его специфических черт. Держась западного принципа разделения властей, Пушкин ставил себе сугубо ограниченную профессиональную задачу: научить нас не что делать , а лишь как читать , или еще скромнее – как НЕ читать .
Литература
Валентинов Н. 1953. Встречи с Лениным. Нью-Йорк.
Гершензон М. О. 1919. Мудрость Пушкина. М.: Книгоиздательство писателей.
Гройс 1992 – Boris Groys. The Total Art of Stalinism: Avant-Garde, Aesthetic, Dictatorship, and Beyond. Princeton: Princeton UP.
Жолковский А. К. 1995 . Инвенции. М.: Гендальф, 1995.
Кленин 1992 – Emily Klenin. On the Ideological Sources of “Chto delat’?”: Sand, Druzhinin, Leroux // Zeitschrift für Slavische Philologie 51 (2).
Паперно 1996 [1988] – Ирина Паперно. Семиотика поведения: Николай Чернышевский – человек эпохи реализма. М.: НЛО.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу