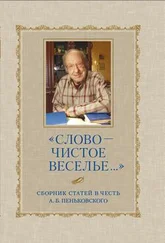София, Премудрость Божия – важный символ тайноведения вообще и масонства в частности. Этой Софии, например, Елагин торжественно посвящал исторический трактат: «Твоему, божественная София, предвечная Всемогущему неба и земли Зиждителю присущность, внушению повинуясь, воспринял труд повествования о отечестве своем…» [Елагин, с. III]. В традиционной мистике София персонифицирована и наделена чертами прекрасной девушки, добродетельной невесты, воссоединения с которой чает адепт. Знаменитый Н.И. Новиков торжественно возглашал: «Что мы алчем к сокровенной Деве Софии и желаем достичь в Духовное с Нею Брачное состояние, то происходит из Огненной Любви Ея к нашему Огню – Души… Она, хотя мы далече есьмы, бежит на сретение нам с огненными очами, сердцем и распростертыми руками и целует наш ум в огненное основание и влечет нас из наружной суетной жизни в своя внутреннее основание души… Ибо ежели вы не приметися за себя с решимостью, не отвергнете себя и не будете искать горячей Любви Ея, то никогда не будете введены на невестное ложе и не будете облечены, вооружены и украшены благородным невестным сокровищем…» [Модзалевский, 74; подр. см.: Одесский]. И трактат Елагина, и фрагмент Новикова составлены значительно позже стокгольмского «хождения», однако посвященность Куракина в этот код более чем вероятна.
4. Просветительское измерение
Визит Куракина в Швецию можно интерпретировать в разных измерениях. Это, во-первых, поездка дипломата, связанная с перемещением из «своей» державы – через опасные пространства Финляндии – в «чужое», почти враждебное (в политическом аспекте) государство. Во-вторых, это перемещение из профанного пространства российского масонства, одержимого ощущением недостаточности знания, в сакральное пространство духовного центра. И в-третьих, это посещение «своих» – поверх национальных барьеров. Приятель Куракина, князь А.И. Лобанов-Ростовский, просит передать привет светским знакомым в Стокгольме, не сомневаясь, что российский дипломат окажется в привычной среде: «Зная усердие шведов, я надеюсь, что Вы развлечетесь в Стокгольме, я даже рискую сказать, что убежден в этом. Шведская нация, исполненная уважения ко всем иностранцам, не упустит возможности оценить приятные свойства, которыми Вы наделены» [АКК, VIII, 272].
Российские и шведские дворяне говорят на одном языке – французском и на одном категориальном языке, используя универсальный дискурс просветительской философии. Куракин, реферируя декларации Густава III и подозревая короля в лицемерии, докладывал Панину: «Когда речь о Швеции доходила, всегда при мне старался о ней отзываться, как о вольной республике, и о себе самом, как только о первом члене вольного правительства» [АКК, VIII, 288—289]. Все гармонично: Панину – участнику екатерининского переворота 1762 г., низвергшего «самовластие» (согласно официальному Манифесту), – объясняют, что шведский переворот 1772 г. должен был укрепить статус шведского королевства как «вольной республики». Ситуация абсурдная, но показательная. Просвещенные монархи и их соратники, причем решительные, способные энергично «власть употребить», официально толкуют «вольность» в качестве аксиоматической ценности.
Стокгольмский двор, желая выразить благоволение к Куракину, удостоил его чести стать членом королевской академии наук (которой Густав III постоянно уделял серьезное внимание). Куракин, увидев в королевском жесте отнюдь не светскую формальность, счел себя обязанным в благодарственной французской речи изложить свою концепцию Просвещения, неразрывной связи просвещенной монархии с программой покровительства наукам и демонстрировал готовность подтвердить почетный титул реальными деяниями [АКК, VIII, 321—322]. Достойно внимания, что Куракин акцентировал практическую пользу наук. С этим перекликаются и его планомерная забота о развитии «богатств земледелия» в России (с 1776 г. – член Вольного Экономического Общества, жертвователь средств на конкурсы Общества и т. п.) и шире – будущая коммерческая деятельность (в пору ссылки) и т. д.
5. Галантное измерение
Эпоха Просвещения – не только выверенная система политического баланса, не только рациональная философия и масонство, но также атмосфера праздника и флирта.
Двор Густава III веселился – посреди веселья делались и дела. На маскараде король пытается разъяснить Куракину свою политическую программу [АКК, VIII, 295—298]. На балу – спустя 15 лет – Густав III будет убит. В опере графиня София, слушая Орфея, скорбит о несчастной любви (письмо № 33), в опере же она негодует, почему Куракин занят не ею, а австрийским посланником Кауницем (письмо № 4).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу