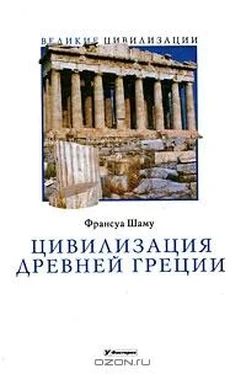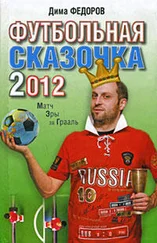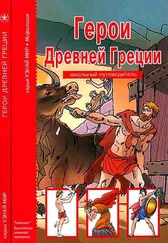«Древняя» аттическая комедия — это всегда некая игра обстоятельств и борьба с ними, ее мало заботит правдоподобие, единственная цель, которую она преследует, — рассмешить своими шутовскими репризами и бесконечными аллюзиями на реальность. Сюжет обычно представляет собой фантастическую или смешную затею, которую предпринимает главный герой в присутствии хора красочно наряженных персонажей — людей, животных или персонифицированных абстракций. Несколько эпизодов демонстрируют, как главный герой добивается своего, несмотря на мешающие ему препятствия. После интермедии, в которой хор обращается к публике с речью, не имеющей никакого отношения к интриге и необходимой лишь для сообщения зрителям о чувствах автора относительно того или иного вопроса современности, новая серия скетчей раскрывает обстоятельства сложившейся ситуации вплоть до финальной процессии, когда хор покидает сцену, восхваляя Диониса. Следуя этой схеме, поэтам предоставлялась абсолютная свобода развлекать публику какими угодно средствами: от каламбура до изысканной литературной пародии, от непристойных шуток до самой утонченной поэзии, от грубого личного оскорбления до комедии положений и характеров — все допускалось, все ценилось. Невероятное разнообразие тональностей юмора у Аристофана, легкость, с которой он переходит от грубого к деликатному, поражают современного читателя. Но если слишком вольные шутки нас шокируют, а политические намеки, смысл которых нам не понятен, озадачивают, мы все так же очаровываемся вдохновением, которое по прошествии стольких веков не потеряло своей свежести, поэтической силой и великолепным чувством сельской природы. Ни одно из произведений не дает нам ощущения настолько реального общения с афинским народом эпохи Сократа, Алкивиада и Фукидида, ощущения одновременного повествования о жизни автора и о его времени.
Последние пьесы Аристофана, написанные в начале IV века, значительно отличаются от его первых произведений: в пьесах «Женщины в народном собрании» и «Плутос» поэт обращается уже к новой форме комедийного жанра — к так называемой «средней» аттической комедии. Роль хора в ней ограничена, фантазия автора более умеренна. Сатира над персонажами уступает место социальной сатире, личные выпады — описанию человеческих типажей, шутовские приемы — пародированию мифов. Последователи Аристофана, такие как Антифан или Алексис из Фурий, были не менее плодотворны и написали около сотни пьес, но до нас практически ничего не дошло, и греческая комедия, как и трагедия, не произведет шедевров в IV веке — вплоть до появления Менандра, который принадлежит уже эллинистической эпохе.
* * *
Не стоит удивляться тому, что первые прозаики появились в греческой литературе значительно позже первых поэтов. Это довольно распространенный феномен, и сами античные авторы понимали всю ситуацию: Плутарх удачно демонстрирует это в знаменитом фрагменте своего диалога «О том, что пифия более не прорицает стихами». Использование обычной прозы, лишенной украшений поэтического стиля и той опоры, которую стихотворная форма предоставляет нашей памяти, знаменует собой значительный прогресс в практике рационалистической мысли и отражает исконную потребность в изыскании и воспроизведении реальных событий. По-гречески это изыскание называлось «historia»: оно повествовало в первую очередь о событиях человеческой жизни и об обстановке, в которой они разворачивались. Отсюда и произошло слово «история», которая первоначально была неразрывно связана с географией.
Греки считали Гомера первым историком и фактически не проводили различий между историей и эпосом. Первыми работами, в которых проявляется интерес исторического характера, были эпические поэмы, такие как «Основание Колофона», сочиненная в VI века философом Ксенофаном. Традиция была продолжена в следующем веке поэтом Паниасидом, дядей Геродота, о котором мы уже рассказывали. Свои «Ионики» он посвятил давней истории создания первых городов Ионии, основателями которых были Кодр и Нелей. Живая любознательность ионийцев увлекалась также фантастическими историями о путешествиях в неизведанные края на северное побережье Черного моря, о чем повествует поэма «Аримаспия», авторство которой приписывается полулегендарному персонажу Аристию из Проконесса, жившему якобы в середине VII века.
Гекатей Милетский, игравший важную политическую роль в конце VI века и во время мятежа в Ионии, порвал с этой традицией, создав на ионийском диалекте прозаические «Генеалогии», или сборник легенд, которые он интерпретировал в свете наивного рационализма, а главное — описание всей обитаемой земли, названное «Periegese» и оказавшее большое влияние на Геродота. Изучая дошедшие до нас фрагменты, мы видим, что он проявлял большой интерес к этнографии и уже имел критический взгляд. «Я повествую здесь о том, — писал он, — что считаю правдой: поскольку считаю, что рассказы греков слишком разноречивы и, по моему мнению, довольно смешны». Он усовершенствовал использование географических карт, ранее изобретенных Анаксимандром. В V веке у него был ряд подражателей, таких как Акусилай из Аргоса, Харон из Лампсака, Гелланик из Митилены и афинянин Ферекид, но никто из них не добился славы Геродота Галикарнасского, первого прозаика, труды которого сохранились полностью и которого Цицерон по праву называл «отцом истории».
Читать дальше