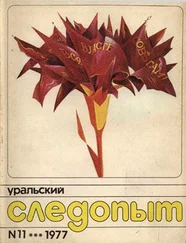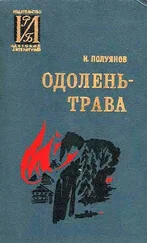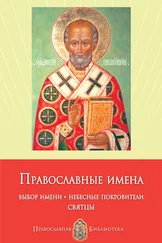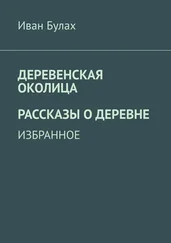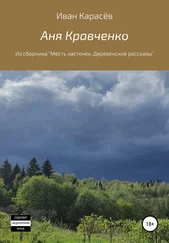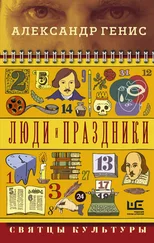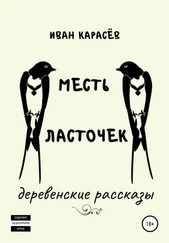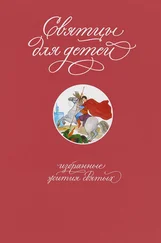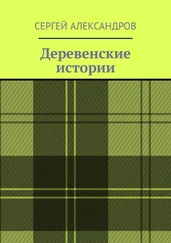«От солнца ноги (лучи пучками вниз) — на морозы, хвост (пучки вверх) — к вьюге».
«Солнце с ушами — на морозы…»
Евстратов день увлекал к прилежности в наблюдениях, заставляя вспомнить августовских погодоуказчиков. Будто бы двенадцать суток выверяют ход по годовому кругу: от погоды 26 декабря зависит январь, 27 декабря строит погоду февраля, 28 декабря — марта.
«Евстрат солнышку рад», а ребятня деревенская?..
Лес как околдован, стежки-дорожки запуржило. Дугой согнуты гибкие черемухи, ивы вмерзли вершинами в суметы, перегораживают пути проведать Городишну-реку, ее берега, луга-наволоки.
Недоступен Магрин бор, за вьюги, морозы поседелый. Зайцы из него ночью выбегают к огородам, тетеревье осыпает березы поклевать почек.
Плетешься, бывало, на гумно, ресницы склеиваются, так жжет стужа, спирая дыхание; глаза слепнут, так сверкает, искрится вокруг.
Снег в густом накрапе, у скирд соломы, кладей льна сплошная путаница, разве что дедушка разберется, чьи следы — ласок, горностаев или мышей, но, наверное, всех разом.
Вдруг хлопанье крыльев: выпустило гумно птиц, хвосты на просвет красные.
Куропатки…Полевые куропатки!
За ними с истошными воплями вылетели крикуньи сойки, хохлатые, с голубым оплечьем, потом брызнули врассыпную воробьи. Сколькой живности давали гумна зимой приют и пропитание!
Ступишь за ворота, и обнимет потемень. Не скоро различишь на стропилах осиные гнезда. Бабушка говорит, что осы в гумне — к урожаю, что Евстрат дня прибавляет на пядень. А дедушка сказывал: раньше парни учились плясать «оттоп», «сударушку», «восьмерку» в гумнах, коли святки на носу.
Пока некому плясать, ужо я подрасту. Дивья сойкам, воробушкам: ишь, сердятся, раз их пугнул. В темечко бы клюнули, да на мне во какая шапка! Нечего разоряться, ишь, прижились на даровом-то!
Все декабри детства отложились у меня в один день — радостный, солнечный, со слепящим сиянием снегов, с лесом, окованным стужей, когда вылетели в трепете крыльев из темного провала гумна серые куропатки…
27 декабря — Калинник.
Чему он соответствовал, знать, в веках утратилось, а что-то значил, если устные численники ему уделили строку нерукотворную.
На мерзлой калине розовые свиристели, на ольхах чечетки, в городах на колокольнях, куполах церквей серые вороны.
Им наши стужи — светлый рай, гостьям зимним из края полярной ночи!
28 декабря — Трифон Печенгский, Кольский.
Еще один пример, что и окраины Руси имели своих святых покровителей.
К Коле отношение было настороженное у приезжих. Перво-наперво по природным условиям. Залив, простоявший зиму открытым, мог вдруг весной льдами запереть промысловые суда. «Кольская губа — что московская тюрьма» — крылатая молва поморов, видать, не раз ждавших у моря погоды. Народ отпетый заносило в Колу: «Человека убить — что кринку молока испить». «Кто в Коле три года проживет, того на Москве не обманут».
А земледельцы глубинной Руси длили пророчества по приметам:
«Иней на деревьях — к урожаю овса».
«Гладкий снег на полях — к недороду».
На пядь к весне ближе, и о чем у пахаря думушки, если не о хлебушке!
Различие между холодами оттеняли завзятые природознаи.
29 декабря — Аггей.
Пришел Аггей с морозом, когда «воздух зябнет, инеем сеет». Ну, «зима за морозы — мужик за праздники»! Смекала деревня: «Коли утром на Аггея большой мороз, то он простоит до Крещенья». «Если на деревьях иней, святки будут теплые».
30 декабря — Данила.
Гнетет стужа: «На Данилу топи печку, чтобы на два дня тепла хватило».
Поздним вечером молодежь жгла костер. Распалится жарко пламя, в огонь бросали трех снежных кукол: быстро костер погасится тающим снегом — святки-колядки выстоят при ведреной ясной погоде; тлеют поленья — лютые морозы, метели, чего доброго, помешают веселью.
Снежных кукол потому три, что с ветхозаветным пророком Даниилом в духовных святцах соединялась память по отрокам Ананию, Азарию, Мисаилу. Лет триста назад в храмах Вологды, Великого Новгорода, Москвы разыгрывалось «Пещное действо» про то, как царь Навуходоносор изваял себе монумент для поклонения подданным. Кто смеет уклониться, тому казнь в «пещи» — печи раскаленной. Троих юношей, отказавшихся исполнить приказ, низринули в оную, да ангел спас, ибо грех поклоняться, яко Богу, земным владыкам.
Деревня, позаимствовав из сего действа нужную толику, превратила все в молодежную забаву — что с нее спросишь?
Читать дальше