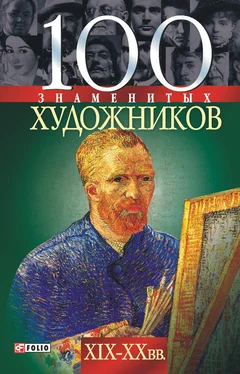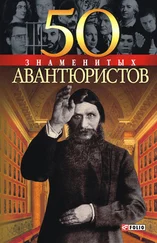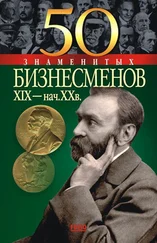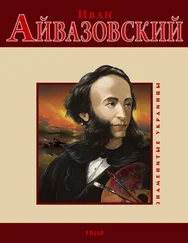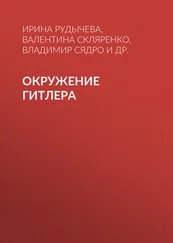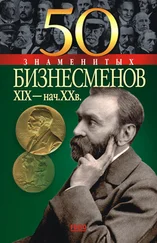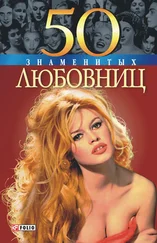В 1921 г. в Кельне Эрнст познакомился с поэтом Полем Элюаром и его женой Талой, которая впоследствии стала возлюбленной Сальвадора Дали. По мнению Элюара, Эрнст был не просто талантливым, а гениальным. «Великое искусство Макса Эрнста, занимающее место между существующим миром и обратной стороной вещей, очень мощное, но вызванное темными силами и уже до такой степени расцветшее и такое совершенное, не могло не пленить Поля Элюара», – писала Д. Бона. А для молодого немца одаренный французский поэт стал первым, кто по-настоящему «смог понять его живопись и принять его протест». В 1922 г. друзья выпустили сборник странных совместно написанных стихотворений «Несчастья Бессмертных», и это событие еще более скрепило их дружбу. Даже любовная связь Макса Эрнста с Талой, женой человека, которого он называл своим братом и «вторым «я», не стала причиной их раздора. Более того, приехав в Париж, Эрнст жил с семьей Элюаров под одной крышей, в «муках, причиняемых любовью и дружбой». Среди друзей их скандальный союз называли «семьей втроем». Трио, просуществовавшее два года, распалось в 1924 г. во время пребывания Эрнста и Элюаров в Индокитае.
По возвращении в Париж художник снял мастерскую на Монмартре и поселился отдельно от Элюаров, но его дружба с французским поэтом на этом не закончилась. Поль продолжал помогать Эрнсту материально, покупал его картины. Это продолжалось вплоть до ссоры, которая в конце концов произошла между скрытыми соперниками.
Осенью 1925 г. Эрнст познакомился с двадцатилетней Мари-Берт Оранш, которая в 1927 г. стала его женой. Вдохновленный своей возлюбленной, художник в этот период написал несколько посвященных ей картин: «Невеста ветра», «Макс Эрнст, показывающий девушке голову своего отца», «Молодые люди, попирающие свою мать». В этих полотнах он противопоставил чувство любви существующим правилам приличия, что еще более укрепило его скандальную репутацию.
Дадаизм, который, в общем-то, «ни в социальном, ни в художественном смысле не представлял собой сколько-нибудь программного и… целостного течения», прекратил свое существование еще в 1921 г. По словам М. Хозиева, автора книги «Сюрреализм в искусстве», «это была та «пустота», то «ничто», пройдя сквозь которые, художники… уходили в сюрреализм, а некоторые – в абстракционизм». Такой путь – от дадаизма к сюрреализму прошел и Макс Эрнст. Подобно своим друзьям-дадаистам Полю Элюару и Андре Бретону, он обращается к «более методичному, чем у Дада, исследованию бессознательного». Свою принадлежность к сюрреализму художник продемонстрировал, написав в 1922 г. картину «Встреча друзей».
В 1925 г. вместе с Дж. Кирико, П. Пикассо, Ж. Ари и другими художниками он принял участие в Первой выставке сюрреалистов. Постоянно экспериментируя, в 1925 г. Эрнст изобрел технику фроттажа, которая стала «фундаментальным новшеством изобразительного языка авангардистов». Еще более зависимая от случая, чем коллаж, эта техника состояла в том, что на лист бумаги переводилась текстура какой-либо рельефной поверхности (куска холста, листьев и т. д.). В результате создавались изображения, «не укладывающиеся в наш зрительный опыт», напоминающие «нечто виденное, но забытое». Сам художник утверждал, что в процессе работы над фроттажами он стремился довести себя до состояния галлюцинаций, чтобы «на основе случайных линий вообразить фантастические пейзажи». С помощью техники фроттажа Эрнст оформил 34 листа тематической коллекции «История природы» (1925 г.), в которой соединил описания органических и неорганических веществ и тел. В заключительной картине этой серии – «Ева, единственная, оставшаяся с нами» художник применил еще одну разработанную им технику граттажа: он наносил на холст густой слой краски, а потом несколько раз его соскабливал. Использовал художник и другие автоматические техники: брызгал на полотно краской (эта придуманная Эрнстом процедура получила название «дриппинг») или же клал две только что написанные картины одну на другую, в результате чего получал новые неожиданные изображения на обоих холстах. Причудливые мотивы художник преображал в первобытные пейзажи, населяя их необычайными существами, напоминающими насекомых и морских обитателей. Так, картина «Слон Салеб» представляла фантастическое видение в пустыне. В ней фигурировал некий кувшин времен древних ацтеков, который одновременно являлся одушевленным механизмом.
В конце 20-х – начале 30-х гг. наряду с фроттажами и фотомонтажами он продолжал создавать «романы-коллажи» («Стоголовая женщина», 1929 г.; «Неделя доброты», 1934 г.), в которых волей своего воображения соединял несоединимые элементы. В живописных работах тех лет художник с необычайной глубиной раскрыл свой воображаемый мир. В них проявилось его духовное родство с немецкими романтиками («Старик, женщина и цветок», 1923 г.; «Видение, вызванное ночным видом ворот Сен-Дени», 1927 г.; «Слепой пловец», 1934 г.).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу