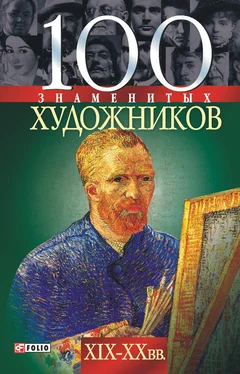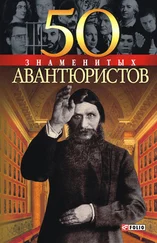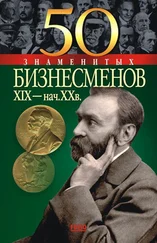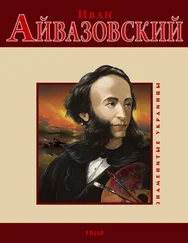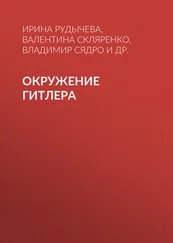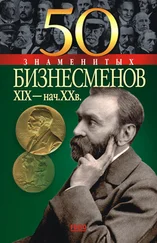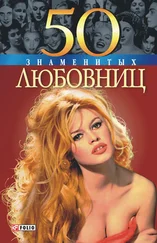Жизнь в мрачной атмосфере чиновничьего Петербурга угнетала Брюллова. Царь требовал писать портреты императорской семьи, но художник находил причины и не исполнял работу. Все поражались той дерзости, с какой он позволял себе относиться к самым высокопоставленным особам. Брюллов шел на любой риск, чтобы отстоять свою творческую независимость. «Свободный артист» чувствовал себя в свете уверенно, заставив всех уважать себя.
Все ученики академии мечтали попасть в класс Великого Карла. Он открыл двери своей домашней мастерской для Мокрицкого, Агина, Чистякова, Шевченко, которого помог выкупить из неволи и поселил у себя, Федотова, чей талант спустя годы признает выше своего.
Тесная дружба с Пушкиным, Жуковским, Кукольником согревала его сердце. Но друзей среди художников у него не было. «Он вырвался вперед, обогнал своих современников, – писал Н. Те, – и жестоко расплачивался за это одиночеством».
В его мастерскую «стояла очередь» за портретом от Великого Карла. В петербургский период их было написано около восьмидесяти. Среди них – портреты В. Перовского, Е. Салтыковой, Н. Кукольника, И. Крылова, А. Струговщикова, В. Жуковского, сестер Шишмаревых и Трофимовых, П. Виардо, князя А. Голицына, графа В. Мусина-Пушкина, А. К. Толстого, Е. Семеновой, А. Брюллова – яркая портретная галерея русской интеллигенции конца 30—40-х гг. Придерживаясь в своем творчестве романтического стиля, Брюллов сумел передать всю сложность человеческой натуры и создать неповторимые индивидуальные образы.
Многочисленные друзья и знакомые зазывали его на приемы и балы. Да и сам Карл любил шумное общество, но в личной жизни он был одинок. Красавица Юлия жила за границей, в Москве подрастал сын Алексей (о матери известно только имя – Елизавета). Все мимолетные связи оставили в душе горечь и разочарование. Карл ждал свою «парную душу».
Любовь пришла к художнику в 40 лет. Он познакомился с очень одаренной пианисткой, ученицей Шопена Эмилией Тимм, дочерью рижского бургомистра. С портрета работы Брюллова смотрит утонченно красивая девушка, от которой веет юной свежестью. Но у Эмилии было горькое прошлое. За внешней чистотой скрывалась грязная связь с родным отцом, и в этом грехе она честно призналась Карлу. Художник был ослеплен любовью и жалостью и решил, что его искренние чувства все одолеют. Они обвенчались. Через два месяца, пройдя через бесконечные притязания отца Эмилии, через грязь, выплеснувшуюся на публику, и скандал в обществе, с Высочайшего позволения 21 декабря 1839 г. этот брак был расторгнут по причине разности в возрасте и «нервной возбудимости» художника. Эмилия оставила Брюллову только боль и страдания.
Между тем в Россию в блеске своей красоты и веселья вернулась графиня Самойлова и вновь закружила Карла в вихре светской жизни. Воспрянув духом, он создает ее парадный портрет-картину «Графиня Ю. П. Самойлова, удаляющаяся с бала с приемной дочерью Амацилией Паччини» (1839 г.). Для себя Брюллов решил: «Моя жена – художества», – и продолжал напряженную работу.
Но в 1847 г. тяжелая простуда, ревматизм и больное сердце на семь долгих месяцев приковали художника к постели. Он вспоминал свою жизнь и испытывал горькое разочарование в творчестве, видел, сколько замыслов остались не воплощенными: не разрешили по уже готовым эскизам расписать Пулковскую обсерваторию, построенную по проекту брата Александра, не доверили внутреннее оформление Зимнего дворца после пожара. Четыре года он работал над росписями Исаакиевского собора, но из-за болезни по его картонам работу закончит другой художник. Но самым большим разочарованием Брюллова было то, что он, признанный исторический живописец, не создал ни одного масштабного полотна на материале русской истории. Свой поединок с картиной «Осада Пскова» (1836–1843 гг.) он проиграл. Вначале вмешивался в работу царь, потом художник писал портреты, да к тому же он, по сути, и не знал простого русского народа. И без слов Солнцева: «Крестный ход превосходен; но где же осада Пскова?» – Брюллов знал, что не смог справиться с поставленной задачей.
Великий Карл чувствовал, что он уже не первый, не лучший, что он остался в стороне от дороги, по которой уходило вперед новое поколение художников-реалистов.
27 апреля 1849 г. по настоятельному совету врачей Брюллов навсегда уезжает из России. Лечение на острове Мадейра облегчения не приносило. Художник продолжал работать. Портреты герцога М. Лейхтенбергского, князя А. Багратиона, князя Мещерского, семьи Титтони пополнили галерею его лучших работ, как и большие, но изящные пейзажные акварели. Удовлетворения от работы художник не получал, он раскаивался в том, что слишком поздно понял: нельзя одновременно отдавать себя творчеству и наслаждаться суетой жизни. Последние работы, «Летящее время» и «Всеразрушающее время», по своему замыслу безысходно трагичны – время быстротечно, и власть его всесильна.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу