Таким образом, изменения в позиции промышленного пролетариата, который, даже при самом пристрастном подходе, уже не казался достаточно многочисленным, чтобы стать вероятным могильщиком капитализма, а также изменения в структуре и перспективах капитализма не могли не отразиться на традиционных теориях как буржуазной, так и пролетарской революции, неотъемлемой частью которых стало каноническое толкование французской революции. Более того, ряд марксистов, например в Англии 60-х годов, начали заниматься проблемой того, что же в действительности представляла собой буржуазная революция и действительно ли буржуазия приходила к власти, когда происходили подобные революции. В то же время можно было отметить заметное отступление марксистов от классических позиций [232].
Впрочем, это касалось не только марксистов. Вопрос о буржуазной революции стал основным в ряде споров между историками, которых никак нельзя отнести к марксистам (хотя за последние 50 лет большинство серьезных историков не обходили вниманием связанные с марксизмом проблемы и аналитические изыскания). Этот же вопрос стал основным в спорах о происхождении немецкого национал-социализма, разгоревшихся в 60—70-е годы. Немецкий «зондервег», проложивший дорогу для прихода к власти Гитлера, по мнению одних, объясняется поражением немецкой буржуазной революции 1848 года и тем, что в этом плане Германия отличается от Англии и Франции, где либеральная буржуазия уже имела за спиной опыт победоносной революции, буржуазной или какой-либо другой. И наоборот, критики теории «зондервега» считали, что немецкая буржуазия получила искомое буржуазное общество, хотя и не совершила успешной революции [233]. Однако оставим споры о революции и зададим другой вопрос: в конце-то концов, добилась ли буржуазия своих целей? Не продолжал ли, как утверждал один (левый) историк, старый режим существовать почти во всех странах Европы еще в конце \130\ XIX века? [234] Да, уверенно звучит ответ, даже в стране, первой вставшей на индустриальный путь развития, промышленники не были правящим классом, как не были они и самыми богатыми и влиятельными членами среднего класса [235]. Так что же все-таки представляла собой буржуазия XIX века? Представители социальной истории, которые долгое время занимались изучением трудящихся классов, вдруг обнаружили, что в действительности они мало что знают о средних классах, и взялись восполнить пробел [236].
А вопрос этот не был чисто научным. К примеру, в Англии времен Маргарет Тэтчер сторонники установившегося режима радикального неолиберализма объясняли упадок английской экономики неспособностью английского капитализма в предшествующий период решительно порвать с некапиталистическим и аристократическим прошлым и отказаться от всего, что стояло на пути развития рыночного хозяйства; по их мнению, Тэтчер фактически завершила буржуазную революцию, чего не смог сделать Кромвель [237]. (Как это ни парадоксально, именно этот аргумент использовала, правда, в своих целях одна из группировок английских марксистов.)
Короче говоря, ревизионизм в истории французской революции является лишь одним из аспектов более широкого движения пересмотра всего процесса развития Запада — а позднее и всего мира — непосредственно накануне и в период эпохи капитализма. Переоценке подвергается не только марксистское толкование, но и большинство других историографических толкований этих процессов, поскольку, как представляется, все они нуждаются в переосмыслении в свете совершенно небывалых изменений, происшедших в мире после второй мировой войны. В истории нет прецедента столь быстрых, глубоких (а в области социально-экономической — революционных) изменений, достигнутых за столь короткий период. В свете современного опыта на передний план вышло то, на что раньше не обращали внимания. Многое, прежде само собой разумеющееся, стало теперь подвергаться сомнению.
Более того, как мы знаем, переосмысления требует не только история происхождения и исторического развития современного общества, но сами цели таких \131\ обществ, принятые с XVIII века всеми современными и модернизированными режимами, капиталистическими и (после 1917 г.) социалистическими, — в первую очередь цель безостановочного технологического процесса и экономического роста. Споры вокруг события, которое традиционно (и закономерно) считалось главным эпизодом в развитии современного мира и одним из наиболее значительных его моментов, необходимо вести в более широком контексте переосмысления в конце XX столетия прошлого и возможного будущего в свете происходящих в мире изменений. Но почему же по прошествии двух веков мы считаем, что в нашей неспособности понять настоящее виновата французская революция?
Читать дальше
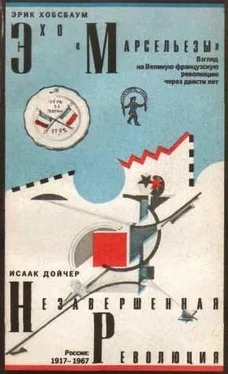


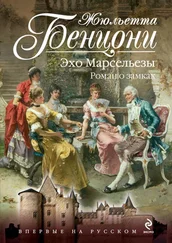

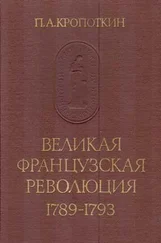
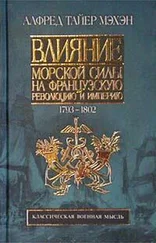



![Жорж Вигарелло - История тела Том 2 [От Великой французской революции до Первой мировой войны]](/books/412945/zhorzh-vigarello-istoriya-tela-tom-2-ot-velikoj-fran-thumb.webp)
![Мишель Перро - История частной жизни Том 4 [От Великой французской революции до I Мировой войны]](/books/413881/mishel-perro-istoriya-chastnoj-zhizni-tom-4-ot-velik-thumb.webp)
