Матьез на короткое время (1920—1922 гг.), вдохновленный примером удачливых Робеспьеров, победивших благодаря более действенной по сравнению с оригиналом доктрине, вступил в новую коммунистическую партию. Этот поступок, возможно, стоил ему кафедры в Сорбонне, освободившейся после ухода в отставку Олара в 1924 году. Тем не менее его вряд ли можно считать типичным марксистом или коммунистом, хотя, осмыслив опыт войны 1914—1918 годов (которую он поддерживал) и русской революции, он смог дать более полный социально-политический анализ периода 1789—1794 годов (1921 г.), чем его предшественники.
\73\ Любопытно, что на первых порах у французских ультралевых революционеров было мало поклонников. Возможно, их обезоружило то, что большевики демонстрировали свое восхищение Маратом, имя которого было присвоено одному из боевых кораблей и улице в Ленинграде. Во всяком случае, сами участники победившей революции охотнее отождествляли себя с Робеспьером, чем с его противниками слева, окончившими свою жизнь на гильотине. Это не помешало Ленину вскоре после Октября заявить, защищаясь от обвинений в проведении якобинского террора:
«Мы не стоим за французский революционный террор, когда на гильотине погибали беззащитные люди, и я надеюсь, что нам не придется заходить столь далеко» [121] Daline V. Lénine et le Jacobisme. — P. 107.
.
Увы, надежды эти оказались тщетными. Лишь после полной победы сталинизма ультралевые приобрели сторонников в борьбе с новым «московским Робеспьером»: Даниэль Герен в своей книге «Классовая борьба в период I Республики» (1946 г. ), в которой удивительным образом сочетаются либерторианство с идеями Троцкого и даже кое-какими мыслями Розы Люксембург, вновь воскресил забытое было утверждение, что санкюлоты — это пролетарии, борющиеся против якобинцев-буржуа.
Не известно, считал ли себя Сталин новым Робеспьером, но в годы борьбы против фашизма зарубежные коммунисты, оценивая происходившие в Советском Союзе судебные процессы и «чистки», склонны были считать их столь же оправданными необходимостью, как и в 1793—1794 годах [122] «Ныне я сам одобряю, причем без всяких оговорок — и даже с энтузиазмом, — ту силу и жесткость, с которой Сталин обрушился на врагов социализма и агентов империализма. Перед лицом капитуляции западных демократий Сталин вспомнил забытый урок якобинского террора, неумолимой жестокости для того, чтобы защитить отечество и социализм» ( Amendola G. Lettere a Milano: Ricordi e Documenti. 1939—1945. — Rome, 1973. — P. 17— 18). — История жизни Амендолы показывает, что он вовсе не был убежденным сектантом или слепым приверженцем Сталина. См. Boffa G. I1 fenomeno Stalin nella storia del XX secolo. — Bari, 1982. — P. 137 (далее: Boffa G. I1 fenomeno Stalin).
. Это в первую очередь относится, конечно, к французам, поскольку в этой стране по причинам, не имеющим отношения ни к Марксу, ни к Ленину, в историографии периода якобинской диктатуры Робеспьер представлялся идеальной политической фигурой. Поэтому именно французские коммунисты, подобные Матьезу, видели в Робеспьере «прообраз Сталина» [123] Sylvain Molinier //La Pensée. — Marg-Avril, 1947. — P. 116.
. Возможно, в других странах, где слово «террор» не ассоциируется с национальной славой и революционным триумфом, не стали бы проводить подобные параллели со Сталиным. Тем не менее трудно не согласиться с Исааком Дойчером, утверждавшим, что Сталин,
«так же как Кромвель, Робеспьер и Наполеон, великий революционный деспот» [124] Deutscher I. Stalin: A Political Biography. — Hardmondsworth, 1966. — P. 550.
.
Однако сами по себе споры по поводу якобинства \74\ не имеют столь уж большого значения. Вряд ли кто-нибудь на самом деле сомневается, что в 1917 году именно большевиков правомерно было сравнивать с якобинцами. Вопрос стоял о другом: если и дальше продолжать историческую параллель, кто же станет русским Кромвелем или Бонапартом? Повторится ли Термидор? И если да, то куда это приведет Россию?
Первое казалось очень реальным в 1917 году. Имя Керенского забыто настолько, что, когда мне указали на небольшого роста пожилого джентльмена, прохаживавшегося по библиотеке Гувера в Стэнфорде, я застыл от изумления. Почему-то казалось, что он давным-давно умер, хотя тогда ему не было еще и восьмидесяти. Его звездный час пришелся на март — ноябрь 1917 года. Именно в этот период он был центральной политической фигурой, о чем свидетельствуют не прекращающиеся с 1917 года споры, хотел ли и мог ли он стать новым Бонапартом. Вопрос этот стал достоянием советской истории, поскольку годы спустя Троцкий и М. Н. Рой, говоря о бонапартизме в свете русской революции, пришли к выводу, что Керенский пытался играть роль Наполеона, но попытка эта провалилась, поскольку предшествующее развитие революции еще не подготовило необходимых для этого условий [125] Cм. Roy M. N. The Russian Revolution. — Calcutta, 1945. — P. 14—15; Trotsky L. Russian Revolution. — P. 663—664.
. Троцкий и Рой имели в виду предпринятую летом 1917 года Временным правительством попытку — на какой-то момент она даже казалась успешной — нанести большевикам сокрушительный удар. Но почти наверняка Керенский думал в это время не о том, чтобы стать диктатором, а о том, чтобы, подобно якобинцам, воззвать к патриотизму народа и продолжить оборонительную войну против Германии. Подлинные революционеры, причем далеко не только большевики, выступали против войны, потому что массы требовали «хлеба, мира и земли». Керенский все же выступил со своим воззванием и в очередной раз послал русскую армию в наступление летом 1917 года. Оно полностью провалилось, и участь Временного правительства была предрешена. Крестьяне, одетые в солдатские шинели, уходили с фронта домой, начинали делить землю. Только большевикам удалось убедить их снова взяться за оружие, но уже после Октябрьской революции и после выхода из мировой войны. Здесь вновь напрашивается параллель между якобинцами и \75\ большевиками. У. Г. Чемберлен в самый разгар гражданской войны в России справедливо заметил, что успех якобинцев в деле создания мощной регулярной революционной армии на месте развалившейся королевской очень схож со
Читать дальше

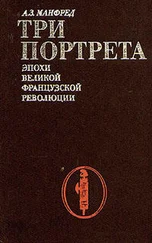



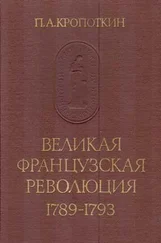




![Жорж Вигарелло - История тела Том 2 [От Великой французской революции до Первой мировой войны]](/books/412945/zhorzh-vigarello-istoriya-tela-tom-2-ot-velikoj-fran-thumb.webp)
![Мишель Перро - История частной жизни Том 4 [От Великой французской революции до I Мировой войны]](/books/413881/mishel-perro-istoriya-chastnoj-zhizni-tom-4-ot-velik-thumb.webp)
