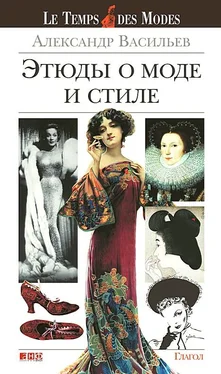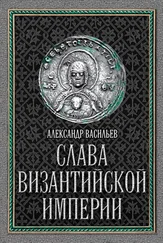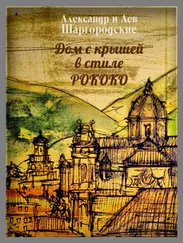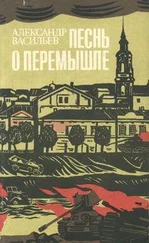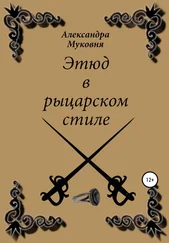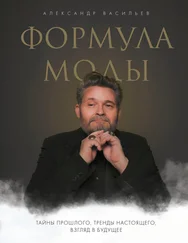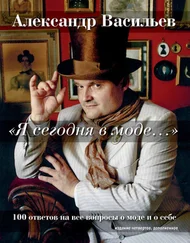Картины всегда были моей слабостью, и первое, что я привез в «Кривой погурек», были французские и бельгийские портреты в стиле бель эпок. Гордостью интерьера является плакат за 1927 год с портретом Халинки Дорсувны, бывшей тогда «лицом» «Фоли Бержер», моей парижской приятельницы и вдохновительницы журналистского творчества. Кроме этого, там собрано множество театральных работ и пейзажей кисти моего папы, но много и других русских работ. Особенно дорог мне автопортрет художницы-эмигрантки Веры Спичаковой, написанный ею в Кракове в 1936 году. После войны Вера перебралась в Венесуэлу, где подарила этот портрет своей приятельнице, другой художнице-эмигрантке Ирине Бородаевской, жившей затем в Чили. В мою бытность художником-декоратором оперы Сантьяго в Чили, когда там правил Пиночет, Бородаевская передала этот портрет мне. Он повисел у меня некоторое время в Париже, а потом нашел себе новый дом в «Кривом погурке». Или работы караимского художника Бориса Эгиза, жившего в Константинополе в 1920-е годы и писавшего портреты выдающихся представителей эмиграции — теперь и они в «Кривом погурке».
Страсть к путешествиям подала мне идею создания в доме китайской спальни на манер Пьера Лотти. Живя и работая одно время в Гонконге, когда он был еще английской колонией, я частенько наведывался пароходом в португальское Макао на блошиные рынки и привез оттуда кое-что из красной лаковой мебели. Ею я и смог обставить эту маленькую комнатку, которую в начале XX века тетя Маруся сдавала белорусскому поэту Янке Купале. Кроме того, из Австралии я привез небольшую коллекцию ларцов и шкатулок 1890-х годов, выработанных в Индонезии на острове Медора. Их причудливый орнамент из игл дикобраза чем-то неуловимым напомнил мне литовское народное ткачество, и они органично вписались в сложившийся уже к тому времени интерьер.
Будучи от рождения человеком театра и закулисья, я долго коллекционировал фотографии с автографами звезд русской сцены Серебряного века и устроил из них выставку в усадьбе. Там соседствуют друг с другом Михаил Чехов и Евгений Вахтангов, Мария Кузнецова и Анастасия Вяльцева, братья Адельгеймы и Вера Каралли. Воспоминания о давно ушедшей эпохе, застывшей в нашей доме. Последняя удача — автографы Майи Плисецкой, оставленные ею на старинном гримировальном зеркальце на веранде, во время съемок документального фильма о ней французским телеканалом «Арте», тут же в доме Гулевичей. Часто собрание забавных редкостей нашего дома экспонируют в музее, расположившемся в бывшем имении младшего сына поэта — Маркучае. Вещи живут и вдохновляют многих, и это не может не радовать наш род.
Скрипят половицы, хлопают от ветра ставни, потрескивают дрова в печках, дымится кузнецовская чашка с «лапсанг-сушонгом», солнечный луч пробивается сквозь тафтяные или ситцевые занавески, поет Ханка Ордоновна о том, что «любовь прощает все», — и вы вновь в тех старых годах, остановить которые нам, кажется, удалось и без машины времени.
Коллекционерами не становятся — ими рождаются. Я всегда любил вещи, редкостные диковины. Это передалось мне от родителей — у нас в семье каждый был по-своему заражен «вещизмом». Для папы это были разнообразные предметы странной формы и назначения, которыми он украшал свою мастерскую в Москве. Для мамы — все ее платья и аксессуары, которые собрались у нее за долгие годы жизни актрисы.
Я же начал собирать очень рано спички — коробки со спичками, собрал их около трех тысяч из более полусотни стран мира. Мне было тогда 10–12 лет. А любовь к старине и вещам из прошлого пришла ко мне сама собой и, возможно, была формой эскапизма в той жестко отрегулированной действительности, в которой мы все жили.
А вообще моя коллекция началась в возрасте восьми лет, когда я после уроков во втором классе английской школы № 29 в Москве нашел во дворе дома в Нащокинском переулке икону Николая Чудотворца, как потом выяснилось, письма XVII века. Она была большой, стояла образом к стене, и на ней сохла половая тряпка. С этой иконы все и началось!
Ежедневно после уроков я прохаживался по помойкам во дворах старой Москвы. Тогда, как и сейчас, Москву уже нещадно рушили. Особняки и даже доходные дома расселялись, и жители коммунальных квартир, переезжая в малогабаритные «хрущобы» на окраинах города, выбрасывали на свалку все старое.
Время действия: конец шестидесятых — начало семидесятых годов, Тогда на всю Москву было лишь три антикварных магазина. Один специализировался на мебели, в другом продавалась живопись, а третий большой магазин торговал бронзой, фарфором и стеклом. Текстиль и кружева тогда ни в одном из магазинов на комиссию не принимали, к старинным альбомам и фотографиям относились брезгливо, а предметы быта или модные аксессуары — шляпы, зонты, сумочки можно было продать только по объявлениям — в театр или на киностудию. При этом денег давали так мало — от одного до десяти рублей за вещь, что часто от вещей избавлялись, просто-напросто вынося их на помойку.
Читать дальше