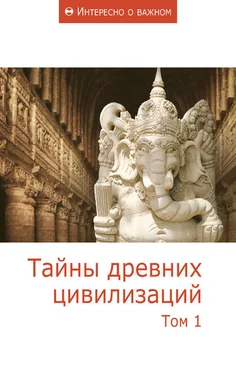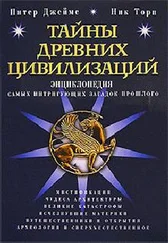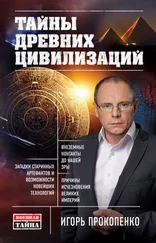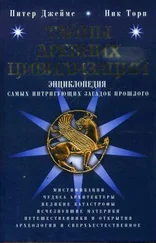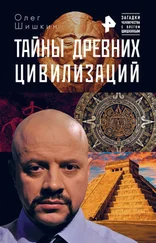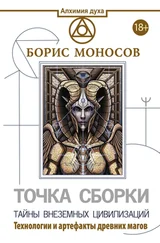И хотя печатных работ после него, к сожалению, мало осталось, меня не оставляет ощущение, что главное было не в тех публикациях, а в рассказах у костра, спонтанных выступлениях, в вопросах. Вообще многое уходит – я имею в виду не только Чернецова, – теряется все это. И по большей части уже ушло.
Вы что-то делаете, чтобы сохранить?
Понимаете, если глядеть глазами обычными, можно просто ничего не увидеть. Да, я стремлюсь кое-что из виденного описать в виде небольших рассказов, былей – только потому, что знаю, что этого никто не увидит. Какие-то истории, совершенно необычные с точки зрения, скажем, московского менталитета, городского. А там они обыденные. И эта обыденность такова, что это совершенно выходит за рамки какой-то привычной яви. Мне жалко, что это утратится. Вот зимовье какое-то, нужно его описать. Ну, бог ты мой, классические вещи, именно то, что является мелочами, – как надо поздороваться (с обыкновенной избушкой!), зайти, извиниться и спросить: можно я тут буду жить? А у них это все серьезно. И я поневоле, как и все, кто со мной долго ездит, перехожу на этот язык – да, спасибо сказать, а уходишь – до свидания. И прочее, и прочее. Все это тоже живое. А вот когда это воспринимаешь как неживое, то тут и получается отдельно археология, академизм, а отдельно система жизни. Я так не могу.
Бурятский лама: 75 лет за гранью смерти
Людмила Сергиенко
10 сентября 2002 года в Бурятии в местности захоронения лам под названием Хухэ-Зуран группа лам и светских лиц извлекла из-под более чем полутораметрового слоя почвы деревянный короб желтого цвета. В коробе находилось тело Даши-Доржо Этигэлова. Когда судебно-медицинский эксперт, присутствовавший при эксгумации, увидел открывшееся лицо, он отказался давать заключение, боясь, что потом ему никто не поверит. Короб был перенесен в Иволгинский дацан (монастырь), и на следующий день тело осмотрели трое экспертов. Тело было одето в оранжевый шелковый халат и зафиксировано в позе лотоса, лицо спеленуто белыми шарфами.
То, что предстало перед глазами экспертов, поражало воображение. Из акта наружного осмотра: «…кожные покровы светло-серого цвета, сухие, податливые при нажатии на них пальцами. Мягкие ткани трупа туго эластичной консистенции, подвижность в суставах сохранена. Волосяной покров на голове, ногтевые пластинки сохранены. Поза трупа при извлечении последнего из короба сохраняется без использования каких-либо поддерживающих и фиксирующих приспособлений. Каких-либо следов, свидетельствующих о ранее произведенном вскрытии полостей тела с целью возможного бальзамирования или консервации, а также повреждений, следов ранее перенесенных травм, оперативных вмешательств, заболеваний на теле трупа не обнаружено».
Участвовавший в осмотре тела заведующий отделением медицинской криминалистики РБСМЭ Игорь Вологдин позднее рассказывал: «Такого в моей практике еще не было. Недавно пришлось вскрывать массовое захоронение репрессированных в тридцатые годы под Читой. Там на поверхность выходила линза вечной мерзлоты. Триста тел все это время лежали при постоянной отрицательной температуре. Состояние отличное. Сложили их на полянке. Через пару часов они стали чернеть. Потом превратились в кашу. А тут температура колебалась от плюс сорока до минус сорока. А гнилостных изменений нет. Мягкие ткани прекрасно сохранились. Осталась и подвижность суставов. А главное – поза сохранена. Это не мумия, это не мощи. Это – неординарное событие, которое мы пока не можем объяснить».
От оборванца к ученому ламе
Даши-Доржо Этигэлов родился в 1852 году в Улзын Добо (сейчас это село Оронгой Иволгинского района Республики Бурятия). Рано осиротев, он был вынужден пасти чужих овец за пять-семь рублей в год. Уже тогда он мечтал (или знал?) о том, что станет Хамбо ламой – главой буддийской церкви России. Когда ему минуло 15 лет, в его судьбе принял участие Захарэй лама, который увез подростка в Анинский дацан, славившийся своей школой буддийской философии. За 23 года обучения он получил ученое звание габжа (аналог доктора наук) и стал известен как ученый лама. А после этого Этигэлов начинает изучать медицину, поступив простым учеником в Тамчинский дацан, и становится еще и доктором медицины. В 1898 году он возвращается в родные места и начинает преподавать буддийскую философию в Янгажинском дацане. Через шесть лет он станет его настоятелем.
Янжима Васильева, директор Института Пандидо Хамбо ламы Этигэлова: «Самая главная задача служителей дацана, как я это понимаю, – удерживать равновесие в природе, гармонизировать отношения человека с природой. В то же время они, конечно, помогают людям. У нас на рубеже веков на 20 человек был один монах. И представьте, их же всех содержали, они имели возможность совершенствоваться, и жил-то народ не бедно. Я выяснила, что самый бедный бурят до революции имел восемь дойных коров. Этого уровня сейчас в Бурятии еще мало кто достиг. А жили они так хорошо, потому что жили в гармонии с природой. Дацан – это порядка 2000 учеников, около 800 лам. Представьте себе – 800 лам одновременно садятся, проводят хурал, читают священные книги. Там такая сила!..»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу