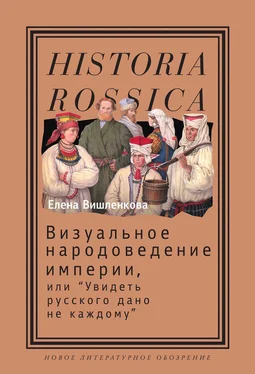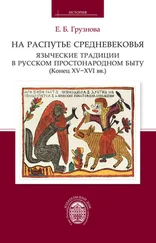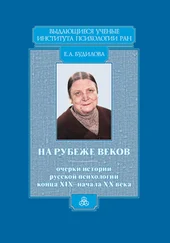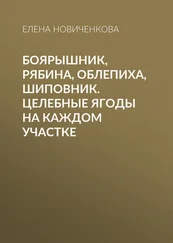Россия представляет благодатную почву для проверки данных теоретических положений. С конца XIX в. и по сей день отечественное искусствоведение выстраивает свой дискурс на трех аксиомах: «история искусства есть борьба художественных канонов», «русское искусство – народное и реалистичное», «сокровищница отечественной живописи состоит из великих творений» [48]. Теоретическая рефлексия на тему эстетических норм [49]сразу же поставила под сомнение незыблемость этой триады, а выявленные мною в изданиях конца XVIII – первой трети XIX в. рассуждения о «красивом», «прекрасном» и «возвышенном» убеждают в историческом характере канона, позволяют увидеть в нем подвижный компромисс персональных и групповых намерений. По всей видимости, язык отечественного искусствоведения нуждается в такой же деконструкции и профессиональной рефлексии, как те, через которые уже прошли языки этнографии, истории, географии, ботаники, антропологии и социальных наук [50], тем более что сейчас выявлена связь между художественным воображением, научными открытиями и политическими интересами [51].
Моя «сверхчувствительность» к языковым проблемам обусловлена спецификой рассматриваемой темы. Каждому исследователю, имеющему дело с визуальным миром России XVIII в., приходится представлять и описывать его посредством вербальных категорий. При этом подавляющая часть таких описаний использует категории, созданные в контексте модерного знания, возникшего значительно позже изучаемой эпохи и превратившего ее в «архаичную». Избегая модернизации исследуемой эпохи, а также произвольной трактовки изучаемых культурных феноменов, мне постоянно приходилось иметь в виду онтологическую несводимость образа к вербальным терминам, с одной стороны, и факт разрыва языковой преемственности, с другой.
Подобная процедура семантического перевода не имеет устойчивого алгоритма. Ограничения искусствоведческого способа его осуществления лежат в нарративной описательности и вольной интерпретации изображенного. А уязвимость семиотического метода мне видится в анализе нелигвистических явлений через прямую аналогию с вербальным языком, в доминировании пролингвистической аргументации [52]. Предлагаемая в данной книге процедура перевода основана на анализе изменений в воображении современников, вызванных визуальными образами. Такой подход коррелирует с идеей Б. Андерсона о «нации как воображаемом политическом сообществе» [53]. Для того чтобы увидеть или не увидеть общность людей, чтобы современники приписали художественным объектам (или опознали в них) соответствующий смысл, чтобы они вызвали у них эмоции, заставляющие их говорить и действовать заданным образом, – для всего этого требовалась деформация фантазии, появление способности переводить конкретные отношения между объектами из пространственных в темпоральные (например, способность превратить «местных жителей» в «современный народ» или в «историческую нацию»).
В растяжении воображения современников художник [54]играл ключевую роль. Не случайно в эпоху Просвещения на него возлагали особую социальную ответственность. Охваченный страстью или энергией творческого замысла, мастер должен был показывать зрителям скрытые миры и «пролагать новые пути». На этой миссии настаивали Д. Дидро, Ш. Батто и А.Г. Баумгартен [55]. Предполагалось, что созданные ими творения не просто зафиксируют реальность, а создадут желаемую действительность. Посредством зрения она проникнет в головы зрителей, они облекут ее в слова (тем самым завербовав новых единоверцев), а потом воплотят в жизнь через отношения, дела и поступки.
В связи с этим художественное производство сопровождалось интенсивной рефлексией над изображением и публицистическо-литературными заказами на него. Институциональные условия для этого создали Академии художеств, одна за другой возникавшие тогда в европейских странах. Систематическое обучение требовало размышлений над природой искусства, над формами его воплощения и путями развития. Выходившие где бы то ни было теоретические работы на эти темы тут же переводились на национальные языки. В процессе порождения воображаемых сообществ рационализация играла роль деструктивного фактора, посредством которого художественные миры проверялись на возможность их адаптации к исторической действительности (а значит, независимого от художественного гения бытования и воспроизводства). Артикуляция или вербальное описание либо «уничтожали» шедевр, либо давали ему социальную прописку [56].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу