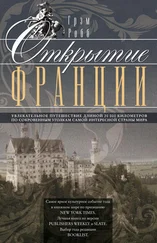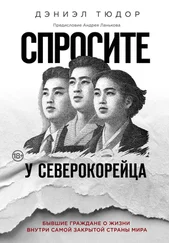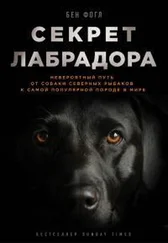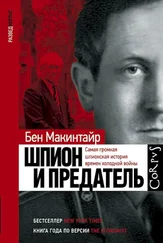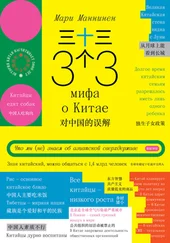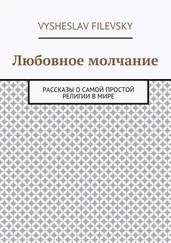Трудолюбивые и послушные — так воспринимались китайцы в те первопроходческие дни 1860‑х в горах Сьерры-Невады. Таким сохраняется образ китайца в нашем воображении и поныне, полтора века спустя.
Наше представление о китайцах как о невероятно трудоспособной и исполнительной нации сформировалось задолго до того, как Крокеры начали нанимать их для работы. Как и почти всегда, католические миссионеры в Китае первыми обратили внимание на эти качества китайцев. Французский иезуит VIII века Жозеф де Премар так описывает их в своем письме на родину: «В Китае в отличие от Европы про бедных не скажешь, что они просто ленивы и могли бы заработать себе на пропитание, если бы работали как следует. Труды и усердие бедных людей не поддаются описанию. Китаец проводит целые дни, копая землю, порой стоя при этом по колено в воде, а вечером бывает сыт ложкой риса и пресной водой, в которой этот рис был сварен».
Живший примерно тогда же, что и Премар, Дэвид Юм присоединяется к этому мнению. Шотландский философ отмечает «трудолюбие» китайцев. Поразительно точно провидя будущее торговой марки «Сделано в Китае», Юм пишет: «Если бы Китай был к нам так же близко, как Франция или Испания, все, чем мы пользуемся, было бы китайским».
В XIX веке этот взгляд еще более укрепился. Уильям Напьер, вспыльчивый шотландец, которому в 1830‑х было поручено представлять в торговых делах в Кантоне Британскую корону, был никудышным дипломатом и терпеть не мог китайскую чиновничью бюрократию. Тем не менее он воздавал должное «работящим и старательным» жителям Кантона, с которыми ему пришлось встречаться.
Марк Твен, наблюдавший в Виргинии труд рабочих в китайских прачечных, придерживается такого же мнения. «Редко можно встретить безалаберного китайца, а ленивых и вовсе не существует», — пишет он. Твен сравнивает их со своими американскими соотечественниками, явно не в пользу последних: «Белый человек часто жалуется на отсутствие работы; от китайца вы таких жалоб не услышите, он всегда найдет себе дело».
Протестантские миссионеры отзывались о трудовой этике китайцев с не меньшим энтузиазмом, нежели их католические коллеги. Артур Хендерсон Смит считал, что это характерная черта китайского общества в целом, сверху донизу. Он замечал, что богатые «не отходят от дел, продолжая отдаваться работе с той же энергией, как это было до того, как они разбогатели». Смит наблюдал учащихся, доводивших себя до изнеможения во время подготовки к экзаменам. Не менее усердными были и крестьяне. Смит видел, с каким «тщанием и заботой склоняются они над каждым ростком капусты, бережно удаляя с него даже самых мельчайших насекомых». Побывавший в 1900 году в Гонконге Редьярд Киплинг был восхищен старательностью китайцев, сновавших вокруг пакгауза. «Ни на Пенанге, ни в Сингапуре, ни здесь мне ни разу не пришлось увидеть заснувшего при свете дня китайца, — писал он. — Не случалось мне наблюдать также, чтобы человек двадцать рабочих просто бездельничали. Каждый был явно занят каким-то определенным делом». Киплингу казалось, что китайский рабочий сделан из металла; писатель размышлял: «Одному лишь Небу, сотворившему его из желтой земли, содержащей в себе так много железа, известно, где прячет он свою любовь к Искусству».
Такое восприятие китайцев оказалось очень устойчивым. В 1930‑х американский журналист и бизнесмен Карл Кроу назвал Китай «страной неустанного труда», в которой «обязанность человека трудиться рассматривается как один из законов природы». Ему видится в этом нечто почти святое. «Если правда, что у дьявола находится занятие только для праздных рук, то в Китае возможности Сатаны весьма ограниченны», — рассуждает Кроу.
Не меньшее восхищение выказывают и другие наблюдатели. Служивший в Китае американский военный моряк Эванс Карлсон высоко оценивал усердную работу китайских промышленных кооперативов 1930‑х и 1940‑х, сформированных для необходимого оснащения отрядов, сражавшихся с японскими оккупантами. По-китайски они назывались «гунъе хэцзо шэ», Карлсон по-английски использовал сокращенное «gung ho». В интервью 1943 года он рассказал: «Я старался возбудить такой же трудовой порыв, какой мне довелось наблюдать в Китае, где все солдаты полностью посвятили себя одной идее и работали вместе для ее воплощения».
Тем не менее далеко не каждый сторонний наблюдатель приходит в восторг от китайской трудовой этики. Немецкий социолог Макс Вебер, наиболее известный своей теорией, посвященной трудовой этике протестантизма, также признает трудолюбие китайцев. Однако он объясняет это их качество определенной степенью умственной неразвитости. Вебер описывает их «бесконечное терпение и неизменную вежливость, крайнюю приверженность к привычному, абсолютную нечувствительность к монотонности, способность к непрерывной работе и замедленность в реагировании на необычные раздражители, особенно в интеллектуальной сфере».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
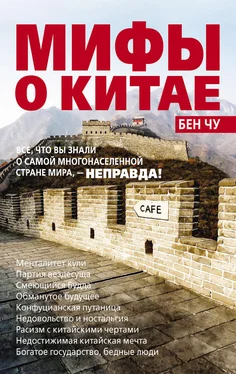
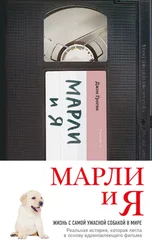
![Питер Куилтер - Несравненная! [Невероятная, но правдивая история ожизни Флоренс Фостер Дженкинс -- самой плохой певицы в мире]](/books/101684/piter-kuilter-nesravnennaya-neveroyatnaya-no-pravdivaya-istoriya-ozhizni-florens-foster-thumb.webp)