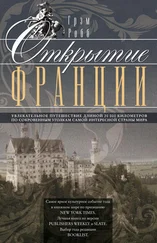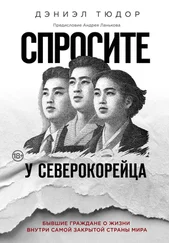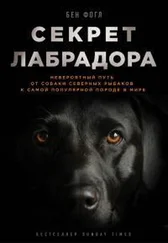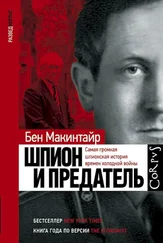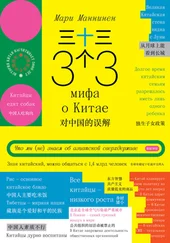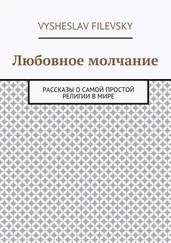Нас продолжают преследовать древние страхи о том, что гигантское население Китая неминуемо выплеснется через границы страны и вторгнется в другие государства. Французский миссионер-иезуит XVIII века Жозеф Премар в письме, отправленном на родину из Кантона, отмечает: «При всей обширности и плодородии этой страны, она не в состоянии прокормить свое население. Для этого потребовалась бы территория вчетверо большего размера». В 1910 году выходит в свет мрачная утопия Джека Лондона, в которой он рисует безмерно большое население Китая, «растекающееся за пределы своей империи… просто перетекающее на граничащие с ней территории с неотвратимостью и вызывающей ужас медлительностью наступающего ледника». В 1960‑х подобные идеи были все еще весьма популярны. В это время американский географ Престон Джеймс, преследуемый теми же кошмарами, что и Лондон пятьюдесятью годами ранее, высказывает мысль, что «Китай являет собой пример одной из тех несчастных стран, что обречены на удушение из-за огромного числа собственного населения». Джеймс далее пишет: «Что произойдет, если Китай содрогнется от абсолютной безысходности, в которой окажутся миллионы его жителей, и если эти люди осознают, что причина их отчаяния — географическая данность; какой путь изберут они, чтобы спастись? Будет ли он лежать к северу, через Маньчжурию, на малонаселенные просторы Восточной Сибири? На юг ли, через Южную Азию, а может быть даже — в редконаселенную Австралию? Или на запад, вдоль древних путей, по которым когда-то приходили враги, и далее, в Европу?»
В наших умах китайское вторжение представляется неизбежным.
На протяжении сотен лет наши предрассудки по поводу характера и обычаев китайцев остаются неизменными. Американец Бойе Лафайет де Мент сочиняет руководства для бизнесменов, отваживающихся на освоение азиатских рынков; среди названий его книг встречаются такие, как «Стратегии самураев» и «Как научиться читать выражение лица азиатов». В публикации 2009 года под названием «Китайский характер» де Мент описывает некую «традиционно китайскую этику», о которой в первую очередь должны быть осведомлены иностранцы: «Люди дадут вам тот ответ, который кажется им наиболее выгодным в данной ситуации, и никогда не позволят вовлечь себя в неприятности или даже просто доставить себе неудобство». Иными словами, приготовьтесь иметь дело с нечестным поведением. Неужели китайцев всегда будут считать безнравственными людьми?
Впрочем, быть может, не столько безнравственными, сколько исповедующими фундаментально иные нравственные ценности. Сэр Мартин Соррелл — босс крупнейшего мирового рекламного агентства — WPP. В 2005 году он писал о том, что «мы на Западе имеем склонность считать, что у нас с китайцами одинаковые убеждения и система ценностей, что понятия о хорошем и плохом у нас совпадают. Однако это далеко не всегда так, и для нас чрезвычайно важно приобрести более глубокое понимание китайского характера». Эти слова эхом вторят сделанному сотню лет тому назад заявлению Джека Лондона о том, что «…их способ мышления радикально отличается от нашего». По мнению Лондона, «западное мышление, попытавшись проникнуть в сознание китайца, вскоре окажется в непостижимом лабиринте».
Мы постоянно снова и снова возвращаемся к этой теме. Тезис о «загадочности» китайской души остается столь же распространенным, каким он был во времена Редьярда Киплинга. «Тридцать лет назад нам на Западе были известны только непостижимые китайские лидеры», — заметил в 2009 году корреспондент Би-би-си Ангус Фрэйзер. А в 2012 году журналист «Файнэншл таймс» Филип Стивенс написал, что новый президент Си Цзиньпин олицетворяет собой «идеальное воплощение непостижимости».
Для многих из нас также остается мрачно притягательной тема жестокости китайцев по отношению к детям. Монах XVII столетия, брат Доминго Наваррете, обращаясь к западной публике, описывал виденную им сцену, когда родители нежеланного младенца, девочки, наблюдали за ее смертью: «Ее крошечные ручки и ножки распрямились, она лежала на спине на твердых камнях в грязи и сырости… ее крики пронзили мое сердце, но нисколько не тронули этих тигров». Возможно, это описание могло вдохновить издателей мемуаров Эми Чуа о том, как она терроризировала собственных детей в подлинно китайском стиле. Они придумали идеальное, способное завлечь читателя название для изданной в 2010 году книги: «Боевой гимн матери-тигрицы».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
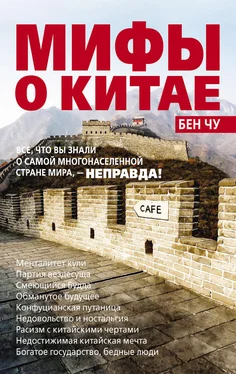
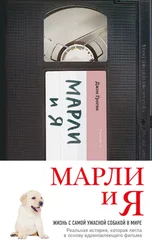
![Питер Куилтер - Несравненная! [Невероятная, но правдивая история ожизни Флоренс Фостер Дженкинс -- самой плохой певицы в мире]](/books/101684/piter-kuilter-nesravnennaya-neveroyatnaya-no-pravdivaya-istoriya-ozhizni-florens-foster-thumb.webp)