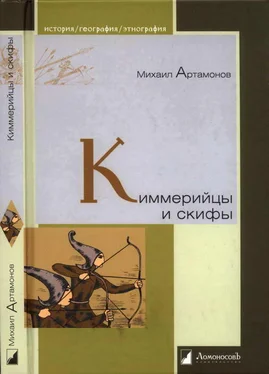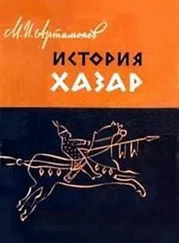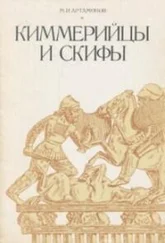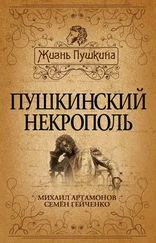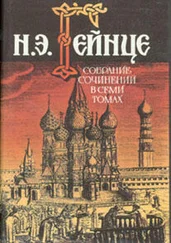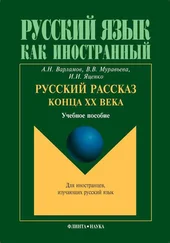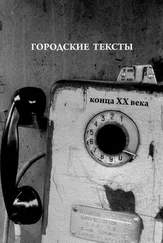Лощеная, украшенная заполненным белой пастой нарезным и зубчато-штампованным орнаментом посуда распространяется в то же время в степях Северного Причерноморья и в лесостепной Скифии как по правой, так и по левой стороне Днепра. Вверх по Днестру она проникает примерно до Могилева-Подольского, выше которого, как и в Побужье, продолжает развитие лощеная керамика с каннелюрами и шишечками того же рода, что и бытовавшая в Румынии и Молдавии в более раннее время. В части своей керамики подольская культура раннескифского времени в большей мере связывается не с Молдавией и Восточной Румынией, а с Закарпатьем и Венгерской равниной, с культурами фракийского гальштата, среди которых распространяется посуда, сделанная на гончарном круге, в отдельных образцах проникающая в Западную Подолию.
Подольские и молдавские памятники объединяет их подоснова в виде культуры ноа и общность исторической судьбы. И те, и другие прекратили свое существование если не в самом начале V века до н.э., то в первой его половине. В истории заселения этих областей наблюдается ничем не заполненный перерыв. По всей вероятности, население покинуло их под ударами скифов-царских. Население Подолии еще некоторое время сопротивлялось завоевателям и с этой целью строило мощные городища-убежища. Население Молдавии, по-видимому, покинуло свою страну без длительного сопротивления, поскольку здесь нет следов оборонительных сооружений. Куда удалилось население обеих областей? Скорее всего за Карпаты, к своим соплеменникам — из Румынии и Молдавии в Трансильванию, а из Подолии в Потисье, в Венгерскую равнину. Опираясь на сведения Геродота, трансильванские памятники можно с уверенностью связать с агафирсами, тот же народ, видимо, занимал и Северо-восточную Румынию с Молдавией. В культурном развитии Подолии имеются особенности, сближающие ее больше с Потисьем, чем с Трансильванией, и препятствующие таким образом безоговорочному причислению ее населения к агафирсам.
Характеризуя агафирсов, Геродот писал, что они «изнежены и любят носить золотые украшения», а также что «женщинами они пользуются сообща, чтобы быть друг другу братьями и в качестве родственников не питать друг к другу ни зависти ни вражды» (IV, 105). В таком виде мог отразиться у Геродота существовавший у агафирсов обычай многомужества — полиандрии. В остальном, по свидетельству Геродота, агафирсы сходны с фракийцами.
Но сходство — не тождество. Во фракийской принадлежности агафирсов можно сомневаться. В прошлом я преувеличивал роль среднеевропейских элементов в культуре Подолии и причислял население последней к фракийцам, полагая, что подольские фракийцы и были агафирсами. Теперь я считаю необходимым осторожнее подходить к вопросу об этнической принадлежности агафирсов. Геродот упоминает имя царя агафирсов Спаргапифа, на счет коварства которого относилась смерть скифского царя Ариапифа (отца Скила и Октамасада), жившего, видимо, около середины V века до н.э., по всей вероятности, в стране агафирсов, в современной Трансильвании. Имя его иранское, но это еще ничего не доказывает, так как имена царей нередко переходили от одного народа к другому. Гораздо более значительно родство агафирсов со скифами, выясняющееся из легенды о происхождении последних. По этой легенде, родоначальники тех и других были братьями. Третьего сына общих родителей звали Гелон, и он был родоначальником третьего родственного народа — гелонов.
В другом варианте скифской этногонической легенды братьев звали Липоксай, Арпоксай и Колаксай, а потомки первого из них были авхаты, второго — катиары и траспии и третьего — паралаты (IV, 6). В имени катиаров нельзя не узнать видоизменение имени агафирсов (акатиры). Второе название потомков Арпоксая — траспии — было или вторым их именем, или скорее всего названием другой части того же народа. О том, что паралаты соответствуют скифам, уже говорилось. Что касается потомков соответствующего Гелону первой легенды Липоксая — авхатов, то их остается отождествить с заселившими среднеднепровское Левобережье гелонами первой этногонической легенды. Этот народ под именем авхетов знал Плиний (Ест. ист., IV, 82), помещающий его не в Поднепровье, а у истоков Южного Буга. Хотя география Плиния отличается невообразимой путаницей сведений, извлеченных из разных источников, и полнейшим смешением хронологии, все же содержащееся в ней указание на связь авхетов как оставшейся на месте части гелонов с Побужьем заслуживает внимания.
Читать дальше