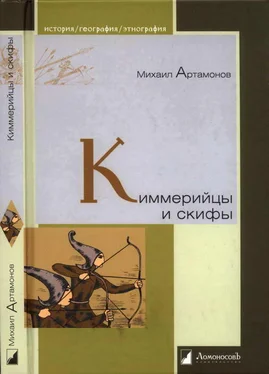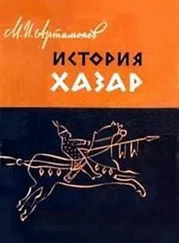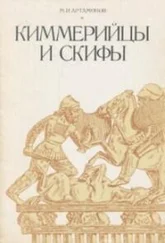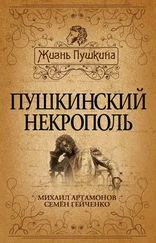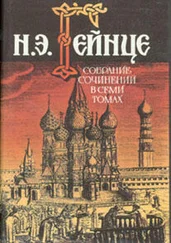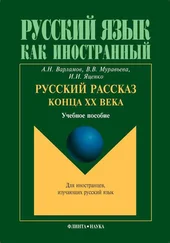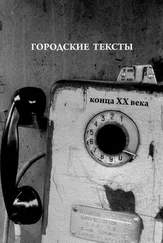Вернувшимся в Северное Причерноморье скифам далеко не сразу удалось там утвердиться и занять то господствующее положение, в каком их застал Геродот в третьей четверти V века до н.э. Не следует забывать, что они явились не обремененными добычей победителями, а разгромленными беглецами, сумевшими унести с собой лишь небольшую часть своего имущества. Да и число их не могло быть значительным, так как многие погибли в войнах, а часть успела влиться в среду местного азиатского населения. Первой задачей вернувшихся на землю своих предков скифов было овладение необходимыми средствами существования — скотом и территорией для кочевания. Они как ушли, так и вернулись скотоводами-кочевниками и, естественно, были заинтересованы в территории, наиболее благоприятной для развития своего хозяйства, какой было степное Поднепровье, в частности низовье Днепра с его угодьями, пригодными для зимнего содержания животных на подножном корму.
Появившиеся вместе с этими скифами богатые погребения с вещами азиатского происхождения сложностью своего устройства и ценностью инвентаря далеко уступают могилам киммерийских царей Прикубанья. Собственно говоря, известно всего два погребения, принадлежавших скифским царям, относящихся ко времени, немедленно следующему за возвращением скифов из Азии. Это так называемый Мельгуновский клад — комплекс вещей, случайно обнаруженных в Литом кургане близ Кировограда, и жалкие остатки погребения у слободы Криворожье на реке Калитве в бассейне Северского Донца. Подробности устройства того и другого точно не установлены. Вещи Мельгуновского клада, хотя и победнее и выполнены из золота с большой добавкой серебра, близко сходны с келермесскими, может быть, даже изготовлены в одной мастерской. Меч в ножнах, обложенный в данном случае скорее электром, чем золотом, представляет такое же сочетание восточного и скифского стиля и близко сходные сюжеты изображений. На перекрестье меча вместо гениев по сторонам священного дерева — две геральдические фигурки лежащих козлов с повернутой назад головой, но на верхнем конце ножен такая же, как в Келермесе, композиция с гениями по сторонам стилизованного дерева. Вдоль ножен фигуры фантастических животных (на этот раз все они с человеческими руками), держащих лук со стрелой. На наконечнике ножен — геральдические скорченные фигуры львов. Лопасть для подвешивания также обведена стилизованными головками птиц и украшена фигурой оленя в скифском стиле. Греко-ионийской по сюжетам изображений и стилю является золотая лента с фигурами обезьяны и двух видов птиц. Типично скифскими чертами отличаются семнадцать золотых блях в виде птицы с раскрытыми заостренными крыльями, вероятно, составлявших украшения пояса. Здесь так же, как в Келермесских курганах, имеется золотая диадема из трех рядов цепочек, пропущенных сквозь девять розеток, с гроздьями подвесок на цепочках по концам, бронзовая застежка (костылек) с головками львов на концах, серебряные с позолотой части трона и сорок бронзовых наконечников стрел листовидной и трехгранной формы с втулками, некоторые с шипами. Ничего относящегося к конскому снаряжению в составе клада нет.
В Криворожском погребении найдены золотой обруч неизвестного назначения, который А.П. Манцевич без достаточных к тому оснований считает венцом для украшения колоколовидного шлема, серебряная головка быка, по определению Н.Д. Флиттнер и Т.Н. Книпович, вавилонского происхождения, вероятно, относящаяся к украшениям трона (табурета), и греческий сосуд с горлом в виде головы барана. Н.А. Сидорова датирует сосуды этого типа второй или третьей четвертью VI века до н.э.
Горло другого фигурного сосуда в форме головы быка было найдено в кургане близ хутора Большого на реке Цуцкан, притоке реки Чир (Хоперского округа). К сожалению, обстоятельства, при которых была сделана эта находка, и то, сопровождалась ли она какими-либо другими вещами, осталось неизвестным. Этот сосуд Н.А. Сидорова относит к середине VII века, а Дж. Бодмэн — к последней трети этого века (630–600 годы). Находка эта важна как указание на то, что криворожское погребение было не единственным в этой части степи. Ни путем обмена, ни в качестве даров от греческих мореплавателей оба эти сосуда в Донскую степь попасть не могли. Скорее всего они принесены скифами, по пути из Азии оказавшимися за Северским Донцом и уже оттуда двинувшимися на запад к Днепру.
Читать дальше