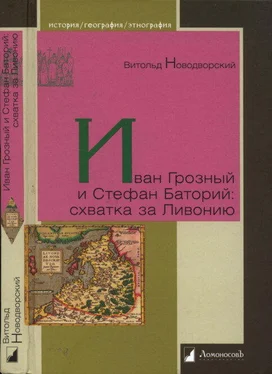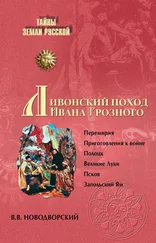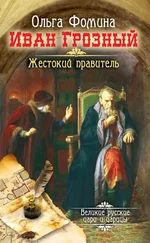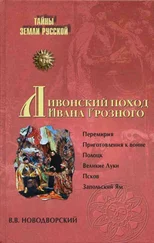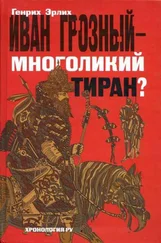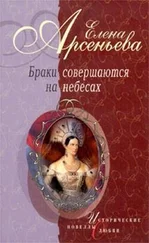У купцов, греков и армян, прибывших с посольством в Москву, были отобраны в казну, по приказанию царя, товары, причем купцы не получили никакого вознаграждения. Мало того, когда посольство выехало из пределов Московского государства, Иван приказал выгнать их за границу «в однех рубашках, без шапок и босыми». Затем он произвел избиение польских и литовских пленных, которые были заключены в московских темницах [3] См. «Описание Московии» Алессандро Гваньини. Этот писатель изображает ужасные сцены. По его счету, было перебито до 160 человек; некоторых царь умерщвлял собственноручно. Мы знаем, что сочинение Гваньини считается памфлетом, но такой общий приговор, по нашему мнению, не мешает нам пользоваться — с должной, конечно, осторожностью — этим сочинением как историческим источником: ведь и памфлетист может сообщить много верного, чтобы придать своему памфлету характер правдивости. О пребывании польско-литовского посольства в Москве мы имеем еще сообщение флорентийского купца Тедальди, проживавшего в Московском государстве долгое время. По его словам, Иван не обращался так дурно с послами, как об этом ходили слухи: послы сами своими насмешками над москвитянами и своим поведением раздражали Ивана; особенно сильно рассердил его еретический проповедник Рокита, которого они привезли с собой. В рассказе Тедальди замечается желание представить Ивана лучше, чем он был на самом деле. Что обиды, нанесенные посольству, были сильны, доказывает тот факт, что Стефан Баторий припоминал их впоследствии Ивану, считая это оскорблением самого короля, и ссылался на них как на один из поводов, вследствие которых он объявляет царю войну.
.
Оскорбления послов вызвали в Польше сильное негодование. Жалуясь на свои обиды перед королем, они увещевали его нарушить перемирие, подавая ему надежду на благополучный исход войны, так как силы «варвара» истощены постоянными войнами, голодом и моровой язвой, а подданные сильно ненавидят его за его ужасную жестокость.
Общественное мнение требовало тоже — сначала весьма настоятельно, — чтобы король объявил Ивану войну. Но Сигизмунд-Август не мог последовать этим советам, ибо положение Речи Посполитой вследствие продолжительной войны также было тяжело. Однако он не преминул воспользоваться общественным настроением, чтобы подготовить умы к необходимости новых жертв ради ведения борьбы с врагом.
Тут надо заметить, что перемирный договор не установил полного мира: столкновения продолжались в Витебской и Полоцкой областях — там, где находились спорные земли; кроме того, Магнус, получив вооруженную помощь от Ивана, вторгся в пределы польско-литовской Ливонии и произвел опустошение в окрестностях Пернова и Руина.
Наконец, Иван тоже не всегда соблюдал условия перемирного договора: по этим условиям замок Таурус, разрушенный войсками Сигизмунда-Августа, не следовало отстраивать заново, между тем Иван приказал его восстановить и поставил в нем гарнизон. Сигизмунд-Август считал это серьезным нарушением договора и полагал возможным поводом к возобновлению войны еще до истечения срока перемирия, что и обсуждалось на сейме 1572 года. Действительно, замок Таурус представлял немалую опасность для Литвы, так как находился недалеко от литовской столицы — города Вильны.
Одним словом, отношения между государствами были весьма неустойчивы; на мир была очень слабая надежда. Ратифицируя 8 мая 1571 года перемирный договор, польский король вовсю подумывал о войне; проблема была только в том, чтобы изыскать средства на ее ведение. Однако перемирие все‑таки не было нарушено.
Сигизмунд-Август в последние годы своего правления тяжко болел; вопрос о том, кому достанется корона Речи Посполитой, сильно интересовал соседних государей. К ним принадлежал и Иван Грозный. В 1569 году гонцу [4] В трехстепенной иерархии русской дипломатической службы в XVI–XVII веках гонец был младшим чином вслед за послом и посланником. Как правило, гонцам поручалась доставка писем или передача устных сообщений. Ведение гонцом самостоятельных переговоров обычно не предусматривалось.
Федору Мясоедову, отправляемому в Польшу, был дан такой наказ: «…проведать ему того, которым обычаем то слово в Литве и Польше в людях носится, что хотят взять на великое княжество и на Польшу царевича Ивана и почему то слово в люди пущено, обманкою ли, или в правду того хотят и все ли люди того хотят, и почему то слово делом не объявится, а в людях носится». В 1570 году польско-литовские послы, приехавшие в Москву для заключения перемирия, заявили царю, что так как у их короля нет детей, то «ради Короны Польской и Великого княжества Литовского желают избрать себе государя от славянского рода и склоняются к тебе, великому государю, и твоему потомству». Иван отнесся к этому заявлению недоверчиво, что вполне понятно, так как он мог думать, что это ни более ни менее, как только дипломатическая уловка, сделанная с той целью, чтобы склонить его к большей уступчивости; так оно в действительности и было. Тем не менее Иван сильно заинтересовался этим заявлением, которое подкреплялось известиями, приходившими из Речи Посполитой, что там хотят иметь государем то ли его самого, то ли его сына.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу