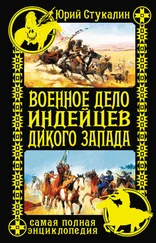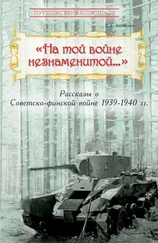Персидская пехота набиралась из менее состоятельных слоев иранского общества. В силу своего низкого имущественного статуса персидские пехотинцы имели плохое вооружение; из-за элементарного отсутствия свободного времени для упражнений во владении оружием и т. п. уровень военной подготовки сасанидской пехоты был всегда крайне низким. По этой причине роль пешего войска Ирана в боевых действиях была почти исключительно вспомогательной, второстепенной. Кроме того, как уже говорилось, для выполнения этих функций в пешие персидские части привлекались женщины и дети (в частности, для транспортировки грузов, амуниции и т. п.) (Liban. Or. L1X. 100; Herodian. VI. 5. 3), что также свидетельствует о низких боевых качествах сасанидской пехоты.
В случае начала боевых действий под знамена шаханшаха, помимо войск союзных народов, собирались воинские контингенты во главе с представителями высшей аристократии — упомянутыми выше васпухрами и вазургами, а также шахрдарами ( sahrdār ) — правителями шахров («царств»), т. е. отдельных наследственных владений, входивших в состав Сасанидской державы в качестве автономных княжеств. Эти войска, в свою очередь, состояли из всадников-азатов, являвшихся вассалами крупной знати, а также пеших подразделений. Так, из слов Аммиана Марцеллина можно сделать вывод, что во главе отдельных крупных отрядов персидской конницы во время похода Юлиана Отступника (363) стояли представители двух древних и знатнейших иранских родов — Суренов (Amm. Marc. XXLV. 2. 4; 6. 12) и Михранов (Amm. Marc. XXV. 1. 11). К более позднему периоду относятся аналогичные упоминания в сочинениях византийских историков: об одном из Суренов как предводителе персидского войска пишет Феофилакт (Theophyl. III. 5. 14); Прокопий Кесарийский неоднократно говорит о персидском полководце, представителе рода Михранов (Proc. Bell. Pers. I. 13. 16; 14. 1, 5, 7, II, 13, 20, 29; 17. 26), как и Феофан (Theophan. A.M. 6021). Вероятно, именно таких предводителей имели в виду тот же Аммиан, употреблявший по отношению к персидским военачальникам выражения «начальник конного воинства» ( ecjuestris mcigister militiae) (Amm. Marc. XXV. 1. 11) и «начальник конницы» ( mcigister equitum) (Amm. Marc. XXIII. 6. 14), ā также византийские историки, называвшие персидских командующих аспебедалт (Άσπεβέδης) или аспабедами (Άσπαβέδης) (Proc. Bell. Pers. I. 9. 24; 11. 5; 23. 6; Theophyl. IV. 3.5).
Не совсем ясны функции военного руководителя, носившего звание хазарпат ( hz’lwpt ) (букв.: «командующий тысячей [воинов]»), упоминаемого среди ближайших к царю вельмож еще в надписи Шапура I на Каабе Зороастра, а также в более поздних текстах {11} 11 Gignoux, 1992. Vol. 5. P. 423–424.
. Вероятно, на раннем этапе сасанидской истории хазарпат являлся главой военного ведомства Персидского государства, однако это лишь предположение, основанное на этимологии данного термина.
Должность хазарпата была не единственным высшим постом в системе военного командования сасанидского Ирана. Кроме него известен еще ряд подобных должностей. В частности, в различные периоды истории роль командующих вооруженными силами Персидской державы занимали вельможи, носившие титулы асваран ( артештаран ) салар (ciswārān ( artēstārāri) sālār) («начальник всадников») {12} 12 Sundermann, 1987. Vol. 2. P. 662.
, аргбед (argbed) («начальник крепости» (?)) {13} 13 Chaumont, 1987a. Vol. 2. P. 400–401.
, вазург фрамадар ( wuzurg framadār) («великий (главный) военачальник»), эран спахбед (Erān spāhbed) («начальник конницы Ирана»). Точно определить круг полномочий этих военных руководителей невозможно, однако вполне ясно, что все они относились к сасанидскому «генералитету» и командовали войсками Сасанидского государства (а возможно, выполняли помимо военных и иные функции). Кроме того, Прокопий Кесарийский упоминает о персидском полководце в звании ханаранга (kanārang) (Proc. Bell Pers. I. 5. 4; 21. 4, 15; 13. 7, 8. 11, 13, 15, 16, 18, 22) — командира войск в Хорасане, на границе с эфталитами {14} 14 Cm.: Frye, 1986. Vol. l.P. 456.
.
Трудно определенно ответить на вопрос о том, существовали ли в сасанидской армии в III–VI вв. регулярные подразделения, а если существовали, то что они собой представляли. Античные источники этой эпохи единодушны в отрицании сколько-нибудь регулярного характера персидского воинства. Наиболее четко данная мысль звучит у Геродиана, который в связи с этим отмечал:
Ведь варвары не дают жалованья воинам, как римляне, и не имеют регулярных и постоянных лагерей, где упражняются в воинских искусствах; у них собираются поголовно все мужчины, а иногда и женщины, когда прикажет царь. По окончании же войны каждый возвращается к себе домой, обогатившись тем, что досталось ему от награбленного… Раз распущенное [персидское войско. — В. Д.] нелегко собрать вновь, так как оно не является ни упорядоченным, ни постоянным, но представляет собой скорее неорганизованную толпу народа, чем армию; и запасов провианта у них имеется только такое количество, сколько каждый, приходя, приносит с собой для собственного потребления; с неохотой и великим трудом покидают они детей, жен и родную страну (Неrodian. VI. 5. 3; 7. 1).
Читать дальше
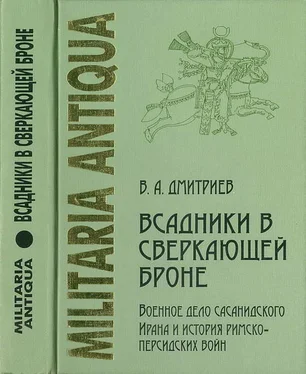
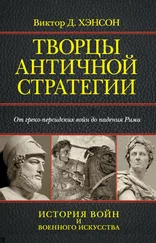


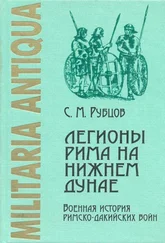

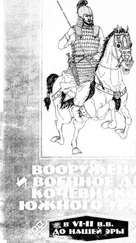
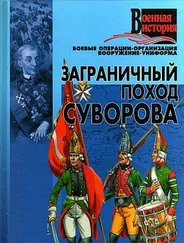
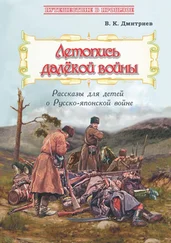
![Автор неизвестен Военное дело - Осада и штурмъ Текинской крепости Геокъ-тепе (съ двумя планами) [старая орфография]](/books/404209/avtor-neizvesten-voennoe-delo-osada-i-shturm-tekinskoj-kreposti-geok-tepe-s-dvumya-planami-staraya-orfografiya-thumb.webp)
![Ревекка Рубинштейн - За что Ксеркс высек море [Рассказы из истории греко-персидских войн]](/books/408677/revekka-rubinshtejn-za-chto-kserks-vysek-more-rasskazy-iz-istorii-greko-persidskih-vojn-thumb.webp)