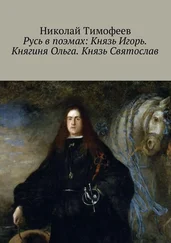С. Н. приветствовал правительственное сообщение, как радостное событие, дающее возможность высказаться по вопросу вполне назревшему и перенести его в печать из кружков, в которых он обсуждался {31} в духе нетерпимой фанатической агитации, поставленной в самое выгодное для нее положение вынужденным молчанием людей порядка, людей искренно преданных университетскому делу.
В своей статье С. Н. осторожно освещает положение университета и подходит к его нуждам, объясняя, что, когда профессора перестают составлять организованную корпорацию, университет может быть внешним соединением весьма многих и разнообразных кафедр, представленных более или менее учеными чиновниками ведомства народного просвещения, но он перестает быть университетом, т. е. живым академическим союзом. Отражая постоянные нападки и обвинения против профессуры, С. Н. утверждает, что профессора, назначаемые непосредственно министерством, не имеющие сами по себе никакого участия в управлении университета и никакого определенного отношения к студентам, помимо лекций и занятий, ведущихся по программе, утвержденной министерством, не могут быть ответственны за порядок в университете, и даже, если бы один из них стал вести преступную агитацию среди студентов, ответственность падает на него, а не на корпорацию, от которой он не зависит, или которая не существует вовсе.
Говоря об университете, нужно иметь в виду не отдельные беспорядки, а его постоянные порядки тщательный и безотлагательный пересмотр коих необходим. (См. статью кн. С. Н. Трубецкого: "По поводу прав. сообщения о студенческих беспорядках". Собр. соч. т.1).
Летом 1899 г. С. Н. в ряде статей, помещенных в "Петербургских Ведомостях" под видом писем к Ухтомскому и Цертелеву, ратует за свободу печати. "Петербургские Ведомости" читались "в сферах", а иногда даже самим государем, благодаря чему они подвергались меньшим цензурным стеснениям. До известной {32} степени С. Н. применял тон своих статей к читателям. Однако в первой статье, он в яркой картине характеризует положение печати словами пророка Исаии о запустении "столицы Эдомской", которая стала жилищем зверей пустыни. (См. собр. соч. кн. С. Н. Трубецкого, т. 1, стр. 82 и след.).
При полном безгласии печати статьи С. Н. произвели своего рода сенсацию в Москве и Петербурге. Они читались нарасхват. Характерно письмо, которое он получил по этому поводу от одного старого приятеля и коллеги:
"Милый друг, поздравляю тебя! Хотя единое смелое слово! Говори и пиши и кричи побольше. Вам, независимым и богатым, следует так говорить. Мы теперь в таком положении, что надо молчать, а то последнее потеряешь. 24 года служу, прожил на профессуре своих 60 тыс., а дослужусь ли до пенсии вопрос... Поневоле молчишь, хотя многое хотел бы сказать". В таком приниженном состоянии русских мыслящих людей С. И. видел величайшую опасность.
"Убивая общественную самостоятельность, мы обращаем в труп самый организм государства. Тормозя свободное развитие общественной мысли, мы развиваем нездоровое брожение умов. Разбивая общество на его атомы, обращая его в пыль, мы рискуем, что эта пыль при первой же грозе обратится в грязь, в которой потонет бюрократическая машина". (там же).
В числе благодарственных и приветственных писем, полученных С. Н. за эту статью, было письмо и от Б. Н. Чичерина, о котором, к сожалению, мы знаем только по ответному письму С. Н. (См. прилож. 10).
Высоко чтя Б. Н. Чичерина, С. Н. искал у него поддержки в своей публицистической деятельности и неоднократно обращался к нему с просьбой выступить в печати и сказать свое авторитетное слово по {33} злободневным государственным и общественным вопросам. (См. прилож. 12).
***
Еще в марте 1899 г. С. Н. решил засесть за окончание своей диссертации "О Логосе", но закончить ее ему все мешали университетские дела и беспорядки и постоянная дерготня и хлопоты по своим и чужим делам. В ноябре он уехал в Сергиев Посад, чтобы там, в тишине и спокойствии отделать последнюю главу. Он надеялся, что диспут состоится в декабре. Но Л. М. Лопатин, его официальный оппонент, отказался приготовиться к нему в такой короткий срок, и, в конце концов, диспут состоялся лишь 23 марта 1900 г.
Диспут этот был событием не только в университетском мире. Впервые в нашей научной литературе богословская тема являлась в свете научно-философской обработки и новейшей исторической критики. Задолго до начала диспута зал был переполнен народом, при чем в числе публики было заметно порядочное количество духовенства.
Читать дальше





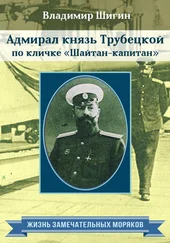
![Евгений Трубецкой - Наша любовь нужна России [Переписка Е. Н. Трубецкого и М. К. Морозовой]](/books/404604/evgenij-trubeckoj-nasha-lyubov-nuzhna-rossii-perepi-thumb.webp)