Завещая младшему моему брату часы своего умершего сына, она при этом говорила:
- "Будешь меня, Гришенька (Кн. Григорий Николаевич, род 1873 г., был посланником в Сербии.), хоронить, спросят тебя, кого Трубецкой третий хоронишь? - Няню, скажешь, не простую няню, родовую, потомственную, Трубецкую няню".
- "А чьи на тебе, Трубецкой третий, часы. - Нянины, скажешь, родовой, потомственной няни."
Рядом с этим она мечтала при жизни увидать величие своего любимца.
- "Гришенька, доживу ли я до того, что тебя сделают графом?" Когда ей объясняли, что он и так уже князь, она не смущалась.
- "Пусть он будет родом князь, а по заслугам граф."
С борьбой "отцов и детей" пришлось и ей столкнуться, о чем мы слышали очаровательные "нянины рассказы". Узнав, что мы двое с братом, в то время уже гимназисты, - увлекаемся философией, она не на шутку встревожилась.
- "Знаю эту вашу философию! Это значит,- нет ни Бога, ни царя, ни няни. Родители - так себе, между прочим. Нет, уже вы это оставьте! Вот {65} у меня племянник был, ни за что пропал от этой философии. Уж сколько его отец ложкой по голове бил, а он все свое. Все провергает; плохо жил, плохо и кончил. Верите ли, в три дня скрутился и помер. Сколько раз я говорила сыну - не слушай его, Алешенька. А он мне - "Упрусь", говорит, "маменька, не дамся ему".
Впрочем на старости лет ее отношение к философии несколько изменилось. Однажды ее застали за чтением философского труда моего брата Сергея, в то время уже профессора московского университета. На вопрос, понимает ли она прочитанное, она отвечала.
- "Как вам сказать? Политику тронешь - религия качается. Религию тронешь - политика качается. А как до Бога и истины дойдет, я все понимаю."
К "истине" у няни было совершенно особенное благоговение. Помнится, опасаясь, что мой младший брат, в то время еще гимназист, кем-то увлекается, она его наставляла:
- "Гришенька, до семнадцати лет молодой человек должен любить одну только истину."
Собственная роль ее в жизни для нее связывалась с мыслью о церкви.
- "Вы надо мной смейтесь, смейтесь, да не очень. Слыхали, как нас, няней, за обедней поминают: "И мамы ко Господу". А вот про вас шалунов, что в церкви шалят, зевают, да громко разговаривают, иначе сказано : - "Поюще, вопиюще, зевающе и глаголюще". {66} О благолепии стояния в церкви она очень заботилась. Помню, в Ахтырке, как она, бывало, стояла с моей маленькой сестрой Ольгой в церкви: чтобы "ребенок не плакал", она поминутно опускала в кружку у распятия тяжелые медные монеты: "бух, бух, бух"... Под аккомпанемент этого буханья "ребенок молился", а я слышал тут же озабоченный шепот Мама: "I1 me semble que la bonne se ruine!"
Последний посмертный ее подарок был маленькие иконы для каждого из нас - благословение няни. Главным образом на это она завещала небольшие средства, накопленные за долгое у нас служение. Другое же, нематериальное ее завещание выражается в последних ее словах, сказанных незадолго до смерти моему младшему брату: - "Гришенька, держи себя почище."
Память ее, согласно ее воле, увековечена столь же краткой, сколь и красноречивой надписью на ее могиле: "Няня Трубецких".
Это был один из ярких образов, неотделимых от поэзии нашей детской и от духовного ее содержания. Иное дело - бонны и гувернантки или, как няня их называла иногда с высоты своего достоинства,- "губерняньки". Эти мелькают в моих воспоминаниях не как типы, а как еле очерченные и быстро исчезающие силуэты, при чем самая быстрота исчезновения большинства из них указывает, что ни прочных корней в нашей жизни, ни сколько-нибудь существенного отношения к духу нашей детской он не имели. {67} Была, например, мадам Швальбах, которую моя маленькая сестричка Ольга называла, картавя, "мадам шабака" - старушка пиэтистка, которая по утрам, закрывая глаза с выражением глубокого и всегда одинаково огорченного умиления, гнусавила старческим фаготом:
"Chaque jour de ma vie
Je vais dire au Seigneur:
Toi qui me l'as donnee
Montre m'en la valeur".
Раз эту молитву запела одна моя тетушка, но была тут же прервана детским возгласом одной из моих сестер:
- "Нет, тетя, это ты не так! Надо сначала заклыть глаза, оголчиться, а потом уж петь".
Впоследствии этой тетушке стоило больших усилий не расхохотаться на лекции знаменитого пиэтиста Рэдстока, когда тот, в подъеме проповеднического пафоса, совершенно так же стал "оголчаться и заклывать глаза".
За пиэтисткой Швальбах последовала милая, но несколько легкомысленная M-lle Menetrey, днем весело болтавшая с нами, а вечером, а то и ночью скакавшая "en troika a Troitza" или, все равно, - "a Strelna avec des messieurs".
Читать дальше







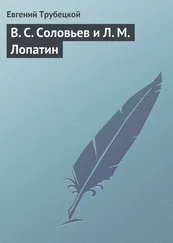
![Евгений Трубецкой - Наша любовь нужна России [Переписка Е. Н. Трубецкого и М. К. Морозовой]](/books/404604/evgenij-trubeckoj-nasha-lyubov-nuzhna-rossii-perepi-thumb.webp)