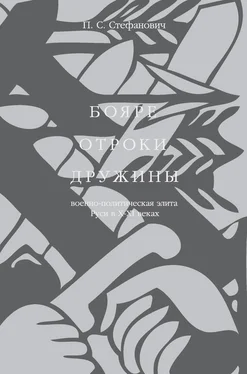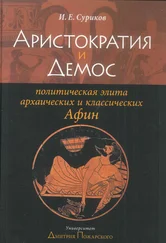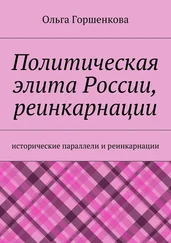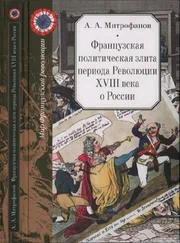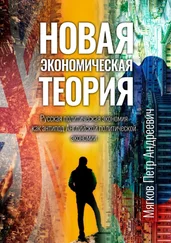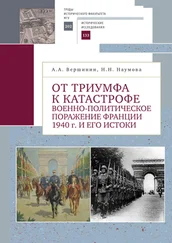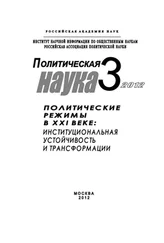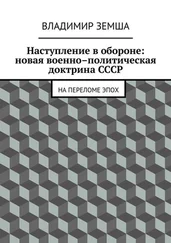Правовые и институциональные градации носили более или менее случайный и каждый раз особенный характер, были неустойчивы и непоследовательны. Историки всегда испытывают трудности в применении к этим обществам определения, принятые для более позднего времени (сословные или классовые). До сложения сословного строя в позднее Средневековье общественная иерархия строилась и определялась под воздействием не столько письменно зафиксированных юридических норм, сколько общепринятых («обычноправовых») представлений и практик и фактического соотношения сил.
Вместе с тем, в современной медиевистике никто не сомневается в самом наличии стратификации в обществе раннего Средневековья и, в частности, в существовании некоей социальной верхушки или правящего слоя, для которого в разных историографических традициях применяются разные, но схожие названия (англ. upper class, ruling group, франц. classe dirigeant, class dominante, нем. Oberschicht, politische Elite и т. д.) [2]. Проблема состоит в том, как определить признаки этого слоя и связать его с сословием знати (рыцарским сословием), оформившимся в позднее Средневековье. Многие учёные, особенно в XIX– первой половине XX в., вообще отрицали наличие здесь какой-либо связи.
Второй том классического труда Марка Блока «Феодальное общество» начинается с утверждения, что относительно строгое упорядочивание общественных классов заметно только со «второго феодального периода», то есть приблизительно с начала XII в. С этого времени, по мнению Блока, можно говорить о знати как особом социальном слое, привилегии которого определены юридически и передаются по наследству. В раннее Средневековье стержень социальной иерархии составляли отношения личной зависимости, и господствующий класс (classe dominante) постоянно обновлялся лицами, продвигавшимися по социальной лестнице в силу личной предприимчивости, обогащения и т. д. [3]Такое понимание общества иногда называют меритократией – «властью достойных» (от латинского mereo « заслуживать, зарабатывать, быть достойным»).
Однако уже тогда, когда писал Блок, был сформулирован совсем другой подход, признававший за знатью не только ведущую общественную роль, но и преемственность на протяжении всего Средневековья. В середине XX в. в немецкой медиевистике произошло явное и решительное смещение акцента на знать/аристократию как системообразующий элемент средневекового общества. Эта подвижка была следствием пересмотра взгляда, принятого в XIX в., на древнее «племенное» общество германцев как «демократию». Вместо «германской свободы» была выдвинута идея «господства знати» – Adelsherrschaft. «Средневековый мир был аристократический мир. В государстве, церкви и обществе господствовала знать», – таким программным заявлением начиналась работа Генриха Данненбауэра, одного из вдохновителей этой идеи [4].
Теория «господства знати» была поддержана в последующей историографии далеко не во всех пунктах и аспектах, но она, несомненно, дала мощный импульс изучению средневековой знати [5]. Общий тренд европейской медиевистики второй половины XX в. состоял в демонстрации наличия и особой роли знати в раннее Средневековье, то есть и до сложения сословного строя (несмотря на естественные расхождения в таких вопросах, как состав и преемственность этого слоя, суть, происхождение и формы его доминирования и т. д.). Сегодня едва ли кто-нибудь станет говорить о раннесредневековом обществе как о меритократии или тем более демократии.
Однако, различие между знатью раннего Средневековья и рыцарским сословием XII–XV вв. очевидно, и остаются трудности в определении признаков этой знати, которая не обладала наследственностью и правовым статусом. По этой причине в англо– и франкоязычной медиевистике, например, разделяют два понятия – знать и аристократия. Первое относится к слою с юридически закреплёнными привилегиями, второе, подразумевая значительный уровень социальной мобильности, указывает на тех лиц, которые выдаются в социальном отношении и обладают властью de facto [6].
К раннесредневековой знати применяют также понятие элита, следуя определениям в духе Макса Вебера и выделяя такие признаки, как 1) престиж (социальный статус), 2) капитал (богатство, имущество) и 3) власть (господство) над людьми [7]. Совокупность всех вместе этих признаков, особенно если идёт речь об обладании не просто властью, но властью политической (публичной), указывает именно на знать. Впрочем, понятие элиты довольно широкое и гибкое. К нему прибегают даже и тогда, когда обнаруживают у разных групп и слоев даже не все три указанных признака вместе, а только два или один, возможно в сочетании с какими-то другими признаками, и тогда говорят о разных элитах– городской и деревенской, интеллектуальной и церковной, экономической и политической и т. д.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу