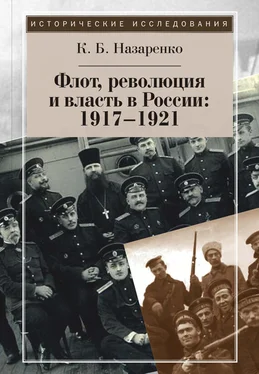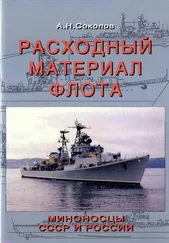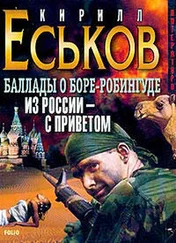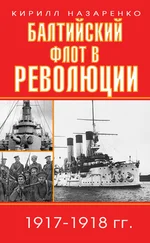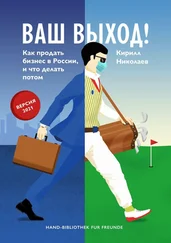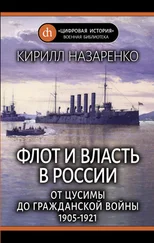Расходы офицеров оценить довольно сложно. Им полагалось шить обмундирование и питаться за свой счет, в том числе и на корабле. Для организации питания в кают-компании существовал определенный вычет из жалованья, например, в 1906 г. около 30 руб. в месяц [340]. В 1912 г. в Кронштадте холостой офицер мог снять комнату за 25 руб., тратить на питание 55–60 руб. (в том числе один завтрак в столовой Минного офицерского класса стоил 50 коп.), на стирку белья 5–10 руб. в месяц [341]. Учитывая покупательную способность тогдашнего рубля, расходы на питание в 55–60 руб. в месяц, очевидно, позволяли офицеру питаться просто роскошно.
Правда, в мемуарах и публицистике встречаются сетования на тяжелое материальное положение русского офицерства. Вот что пишет А. А. Игнатьев о жизни офицеров 1-й гренадерской дивизии в 1898 г. «Компания рассказывала мне до рассвета про житье-бытье московского гарнизона, о том, как было трудно, особенно женатым, прожить на офицерское жалованье, в девяносто рублей в месяц подпоручику и в сто двадцать – капитану. Да к тому же из этих денег шли вычеты на букеты великой княгине и обязательные обеды, а мундир с дорогим гренадерским шитьем обходился не менее ста рублей. Комнату дешевле чем за двадцать рублей в месяц в Москве найти трудно. Вот холостые и спят в собрании, на письменных столах, там в глубине: диванов-то, кроме одного для дежурного, у нас и нет. Мне тем тяжелее было слушать все эти откровения, что жизнь офицеров первых гвардейских полков не имела с этим ничего общего» [342]. Следует отметить, что под указанными А. А. Игнатьевым размерами жалованья поручика и капитана он понимал все денежные выплаты, получаемые офицерами (жалованье, столовые и квартирные). Действительно, штабс-капитан (командир армейской роты) в Москве получал в месяц около 120 руб., а подпоручик – 75–85 руб. (с учетом денег за караулы, суточных за лагерные сборы и т. д. – до 90 руб.). Что касается цен на комнаты в Москве, то обер-офицеру как раз и причиталось 250 руб. квартирных в год, то есть около 21 руб. в месяц, что позволяло снимать одну комнату, которая ему и полагалась по правилам. Было принято, что площадь этой комнаты, вместе с внутренним коридором составит 7,5 квадратных саженей (34 квадратных метра) [343]. Как правило, такую комнату делили дощатой перегородкой или ширмой на «спальню» и «кабинет». Офицерам в более солидных чинах полагались многокомнатные квартиры. Например, штаб-офицеру полагались три комнаты для себя (119 квадратных метров), а также комната для прислуги и кухни; полковому командиру – пять комнат для семьи (192 квадратных метра), комната для прислуги и отдельная кухня; а полному генералу – девять «барских» комнат (366 квадратных метров) и еще две для слуг и приготовления пищи [344]. Фактически квартирные выплаты отставали от роста арендной платы за жилье, особенно в крупных городах, но нормы жилой площади были велики и даже если офицер не мог снять квартиру, полагавшуюся ему по нормативам, то все равно ему была обеспечена возможность обзавестись приличным жильем. Служебных квартир было немного, но они были роскошными, так как в большинстве своем располагались в зданиях правительственных учреждений, построенных еще в первой половине XIX в. Так, служебная квартира морского министра занимала весь второй этаж бокового фасада здания Главного Адмиралтейства (всего 23 комнаты и 8 «людских покоев», не считая дополнительных помещений).
Стандарты потребления гвардейского офицерства были недоступны даже многим выходцам из богатых семейств. Один из них рассуждал в 1911 г. так: «Одно дело быть холостым кавалергардом.
Для этого не нужно было иметь особых средств, ибо кавалергардцы вели себя скромно (без показного шика). Другое дело быть женатому, семейному кавалергарду. Холостой мог бы жить у какой-нибудь тетушки или же на холостяцкой квартире. Он мог довольствоваться одним лакеем или денщиком. Женатый же должен был иметь не угол, а приличную хорошую квартиру в столице и иметь такие средства, чтобы не отставать от требований общепринятого в полковой среде светского образа жизни, да еще в добавок в условиях столицы» [345].
Жалобы на сложное материальное положение военнослужащих русской армии и флота начала ХХ в. были вызваны, по нашему мнению, не тем, что русские офицеры получали маленькое жалованье, а тем, что их стандарты потребления были весьма высокими. А. А. Игнатьев в своих знаменитых воспоминаниях передает удивление русского гвардейского офицера бытом его заграничных коллег. Рассказывая о своей первой поездке во Францию в 1906 г., он писал: «К вечеру я очутился в небольшой квартире моего чичероне (капитана кавалерии Фелина. – К. Н. ) В изящно убранном и блиставшем чистотой крохотном салоне Фелин представил меня своей жене, красавице-блондинке в воздушном белом платье. На маленьком столике был сервирован чай, торт, печенье, сандвичи. Как мне ни хотелось есть, воспитание не позволило наброситься на эти яства. Хозяйка, видимо, заметив мое смущение, попросила не церемониться.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу