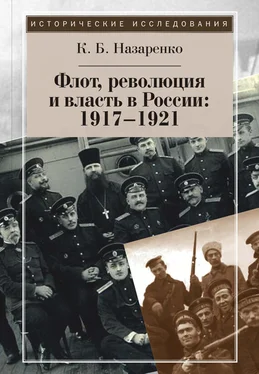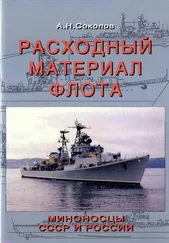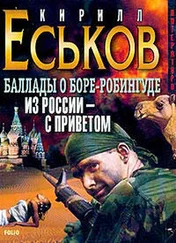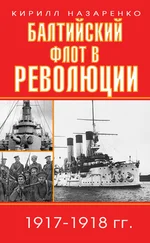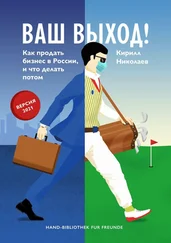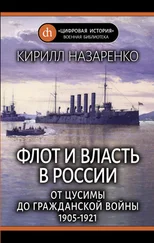Кроме того, МГШ успел поруководить «деятельностью специально созданных с этой целью в Морском ведомстве ликвидационных комиссий», которые занимались определением судьбы торговых судов, находящихся в распоряжении морского ведомства. «Часть судов его подлежала возвращению из Германии в обмен на германские суда, находившиеся в наших руках, некоторая незначительная часть, подлежала возвращению владельцам, и, наконец, большая часть его судов подлежала, в силу национализации, передаче в Главод» [801]. Судя по всему, эта работа отнимала у сотрудников МГШ львиную долю служебного времени, требуя к тому же частых командировок в Петроград [802].
МГШ боролся за собирание исторических материалов во флоте, опираясь на приказ ВМК «Об организации правильной постановки архивного дела во флоте в целях всестороннего собирания материалов истекшей войны и современной революции, являющихся историческими материалами важнейшей исторической ценности» от 14 января 1918 г. [803]В результате «в сентябре 1918 г. в Петрограде была создана Военно-морская историческая комиссия по составлению истории войны на море 1914–1918 гг., в ноябре, в том же году, она переменила свое название и стала называться Комиссией по исследованию и использованию опыта войны 1914–1918 гг.» [804]Кроме того, в 1918 г. была начата работа по составлению новых уставов, наставлений и правил специальных служб.
МГШ пришлось организовывать речные и озерные флотилии и работать над приемом Кронштадтской крепости в морское ведомство. Характерно, что эта деятельность, имеющая практический характер, оказалась на самом последнем месте в записке В. В. Случевского, посвященной деятельности МГШ в 1918–1919 гг. [805]Видимо, практические вопросы не слишком занимали МГШ в то время, о чем довольно откровенно писал сам автор записки: «Теперь, однако, в перспективе прошлого, нам легко было обрисовать значительную работу б[ывшего] Генмора, произведенную им в трудовые два года коренной ломки старых уставов жизни и создания новых. Работа эта лежит не в плоскости оперативных функций, это об[ласть] б[ывшего] высшего учреждения Моркома, с этой стороны, как было указано нами в начале, конструкция эта не обладала достаточной эластичностью для приспособления к требованиям новой деятельности, а в плоскости законодательно-организационных функций его» [806].
Логика политического развития отечественного флота в 1917–1918 гг. заключалась в том, что сначала старый флот был взорван изнутри революционным движением, которое весной – летом 1917 г. привело к созданию многочисленных представительных органов. Примерно год спустя флот вновь приобрел основные черты регулярности. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что при ликвидации выборных органов раздавались лишь единичные голоса протеста. Почему большевикам легко удалось ликвидировать те матросские комитеты, которые оказались «не по зубам» Временному правительству? Причиной была не столько усталость от повседневной политической борьбы, хотя и этот фактор сыграл свою роль. Полагаем, что главным обстоятельством стала значительно более широкая (по сравнению с Временным правительством) социальная опора Советской власти. Это позволяло большевикам чувствовать себя у руля управления страной увереннее, чем их предшественникам.
Пошедшее на службу к Советской власти офицерство искало способ ужиться с новым начальством. Так появилась идея превратить советское морское ведомство в подобие британского адмиралтейства, что позволяло легко сделать гражданского политика Л. Д. Троцкого «первым лордом Адмиралтейства» и удачно вписать традиционную структуру управления русским флотом в новые политические реалии. В то же время страшный призрак подчинения сухопутному командованию уже начал бродить по коридорам МГШ, вызывая ужас руководителей морского ведомства. Не исключено, что в этот период значительную роль в сохранении флотом организационной самостоятельности сыграл В. М. Альтфатера, который умел находить общий язык с самыми разными людьми. Его лояльность Советской власти, по-видимому, была вполне искренней.
Объективно в 1918 г. центральный аппарат морского ведомства, все больше замыкался в канцелярской работе, не имевшей прямого отношения к разгоравшейся Гражданской войне. Думается, дело было не столько в отсутствии достаточной гибкости организационных структур, сколько в нежелании бывших офицеров активно участвовать в Гражданской войне.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу