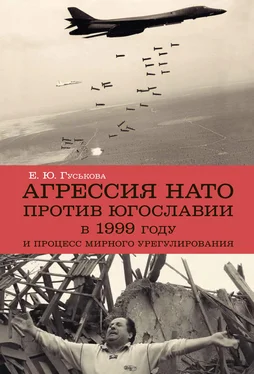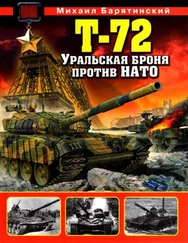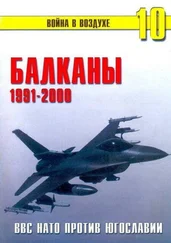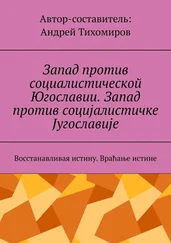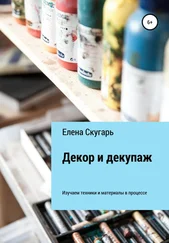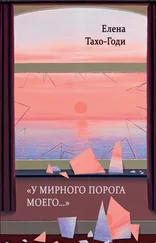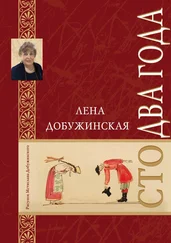В те годы албанцам не удавалось оказывать серьёзного сопротивления турецким властям, но они упорно создавали новые организации и объединения, принимали программы и воззвания и даже делали попытки формировать местные албанские органы власти.
Пользуясь слабостью Турции и перспективами её преобразования, многие страны-соседи проявляли заинтересованность в политическом влиянии на албанцев, а также в приобретении части заселённых ими территорий. Так, себя хотела «вознаградить» прилегающими частями Албании Черногория, ссылаясь на родственные связи между албанскими и черногорскими племенами, а также на схожесть племенного устройства. Об этом свидетельствуют интересные документы — записи о жизни соплеменников, обычаях и традициях черногорцев и албанцев в 80-е гг. XIX в., оставленные черногорцем из племени Кучи Марком Миляновым. Его повествование, приближенное к легендам и преданиям, рассказывает о жизни черногорских и албанских племён в Черногории, об их поведении, взаимоотношениях и патриархальных представлениях [8] Албанцы в Черногории. Из рассказов Марко Милянова (1880 г.) // Там же. С. 42–44.
.
Российский дипломат А. Петряев писал в 1912 г., что в XVII–XVIII вв. «оставленные славянами места тотчас заселялись магометанами, главным образом албанцами. Таким образом, Турция очищалась от непримиримого славянского элемента, а албанцы за его счет расширяли область своего населения. Тогда сербы подвергались двойному насилию: со стороны турецких правителей и от поселившихся албанцев. Вследствие этого многие выселялись в разные места. Между прочим, из окрестностей Призрена и Печи происходят три самых многочисленных племени: Белопавличи, Кучи и Ваневичи; а оставшиеся из них соплеменники превратились в албанские племена: Крастеничи, Бериши, которые, однако, и теперь признают свое родство с упомянутыми черногорскими племенами. Многие знатные сербские роды приняли магометанство и также слились с албанцами» [9] Справка дипломатического представителя на Востоке А. М. Петряева «Албанцы, албанское движение и Черногория» (1912 г.) // Там же. С. 56.
.
В 90-е гг. XIX в. Сербия стремилась укрепить свои границы и присоединить к Королевству земли Старой Сербии, находившиеся ещё под властью Турции. Речь шла, прежде всего, о Косове и Метохии и Ново-Пазарском санджаке, где проживало достаточное количество сербов, однако отношения с албанцами у них были напряжёнными. Албанцы рассчитывали на объединение четырёх вилайетов — Скадарского, янинского, битольского и косовского. Так, посланник Сербии в Константинополе Стоян Новакович писал министру иностранных дел Турции в мае 1898 г., что в «течение последних четырех лет Королевское правительство было вынуждено неоднократно обращать внимание Царского правительства на беспорядки и невероятные и бесчисленные акты насилия, которые непрерывно осуществляет непокорное и недисциплинированное албанское население как на сербско-турецкой границе, так и в пограничных санджаках. Эти преступления и нападения направлены исключительно против христианского населения сербской народности, и складывается впечатление, что их цель — очистить от него эти области» [10] Письмо Стояна Новаковича, посланника Сербии в Константинополе — Тефик-Паше, министру иностранных дел Турции (14 мая 1898 г.) // Там же. С. 45.
.
В начале ХХ в., согласно данным российского внешнеполитического ведомства, общее население Косова составляло 980 тыс. душ. Из них — «530 000 мусульмане и 440 000 христиане. Большинство мусульман составляют албанцы / от 385 000 до 430 000 душ/, остаток же — турки и мусульмане-босняки. Кроме албанцев-мусульман, в Косовском вилайете проживают в разных местах албанцы-католики численностью до 45 000 душ». Албанцы, отмечалось в служебной записке российского МИДа, «народ полудикий и горный, исконно жили и еще теперь живут племенами /фисами/ и крупными семьями — задругами, в которых старейшины и главари /краны/ пользуются неограниченной, патриархальной властью…» [11] Из доверительного донесения из Ниша статского советника Чахотина (6 апреля 1903 г.) // Там же. С. 51.
. Сербское православное население страдает от своеволия албанцев, поскольку политика Порты, «стремящаяся создать из албанцев надежный оплот против соседних христианских государств /Сербии и Черногории/ и поддерживаемая пристрастием султана к своей албанской гвардии, способствовала разнузданности албанского элемента, в сущности отнюдь не фанатичного в религиозном отношении».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу