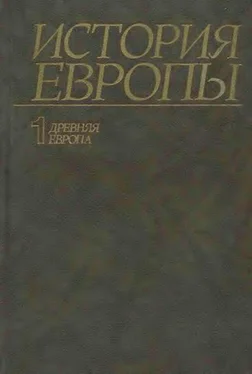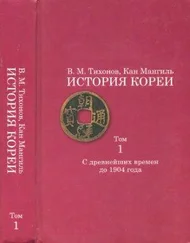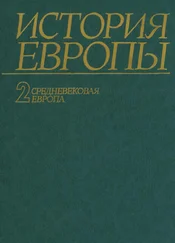Становление классического рабства означало окончательное оформление класса рабов. Одновременно это означало и усиление социального протеста, обострение классовой борьбы, имевшей самые различные формы.
Процесс становления и развития рабства в античном мире имел своим естественным результатом становление и развитие государства. В условиях античного общества именно полис становился формой организации рабовладельцев, той «машиной», которая обеспечивала их господство над рабами. Обратившись к древней Греции, мы можем отметить два пути становления государства. Один путь несколько условно можно назвать спартанским, другой — афинским. К Спарте можно с полным правом применить мысль, что государство в Лаконике возникло как непосредственный результат завоевания обширных чужих территорий, для господства над которыми родовой строй не дает никаких средств. С другой стороны, резюмируя процесс развития классового общества и государственности в Афинах, возникновение государства у афинян является в высшей степени типичным примером образования государства вообще, потому что оно, с одной стороны, происходит в чистом виде, без всякого насильственного вмешательства, внешнего или внутреннего, — кратковременная узурпация власти Писистратом не оставила никаких следов, — с другой стороны, потому, что в данном случае весьма высоко развитая форма государства, демократическая республика, возникает непосредственно из родового общества. Развитие римской государственности, видимо, представляло собой сочетание этих двух путей, ибо Рим очень рано начал широкие внешние завоевания, в результате которых под контролем Римской республики оказались обширные территории в Италии, а затем и за ее пределами.
Становление классического рабства, в свою очередь, потребовало изменения форм государственности. По всей видимости, одной из самых важных причин становления Римской империи, пришедшей на смену Республике, явилась трансформация рабства. Сочетание в период Ранней империи широчайшим образом распространенного муниципия с очень сильной центральной властью, видимо, представляло в это время наиболее эффективную форму государственной «машины», обеспечивающей наиболее полный контроль класса рабовладельцев над рабами.
Становление и развитие античного мира невозможно представить вне теснейших контактов с «периферийным» миром «варварских» племен. Взаимоотношения этих двух миров были широки и многообразны. Прежде всего, необходимо отметить, что в период подъема и роста рабовладельческой формации (примерно до II в. н.э.) она, представлявшая передовой тип производственных отношений, неуклонно расширяла зону своего господства, сокращая, естественно, зону господства первобытнообщинных отношений. При этом, как уже отмечалось, сами контакты этих двух миров в известной мере ускоряли социально-экономическое и политическое развитие «варварских» обществ, подвергавшихся влиянию со стороны античных центров. Наибольшему влиянию подвергались племена, граничившие с античным миром, но даже и в более отдаленных районах (вплоть до Скандинавии) это влияние оказывается достаточно ощутимым. Только полярные области Европы, видимо, оказались не затронутыми им.
Можно утверждать, что само существование рабовладельческой формации немыслимо без «варварской» периферии. Современные исследователи уделяют очень большое внимание проблеме внеэкономического принуждения, как одной из основных черт рабовладельческого способа производства. Однако этот интерес сосредоточен, главным образом, на механизмах функционирования уже существующего рабовладельческого хозяйства. Гораздо меньше внимания уделяется действию внеэкономического принуждения на этапе, предшествующем появлению раба на рабском рынке. Между тем в этом один из глобальных аспектов рабовладельческого способа производства, ибо включение раба в процесс производства достигалось путем внеэкономического принуждения. Главным источником пополнения рабских рынков были жители первобытной «периферии» античного мира. Совершенно не случайно, что процесс роста рабовладельческого способа производства совпадает с периодами внешней экспансии, обеспечивающей постоянное пополнение рабских рынков «живым товаром». Особенно показательно эта зависимость выступает в истории Рима. С другой стороны, прекращение широких внешних завоеваний хронологически совпадает со стагнацией рабовладельческого способа производства. Зависимость этих двух явлений не может быть случайной.
Читать дальше