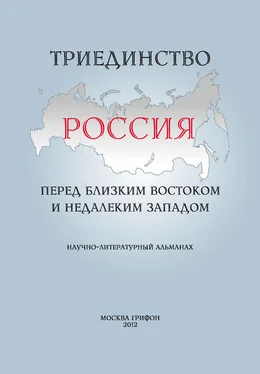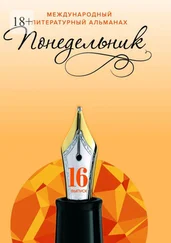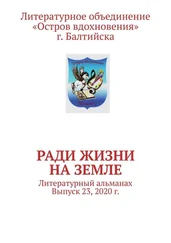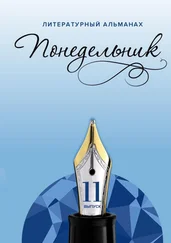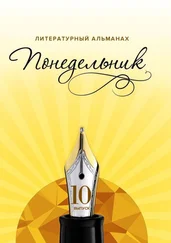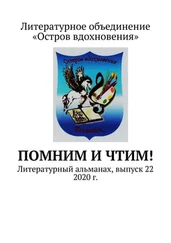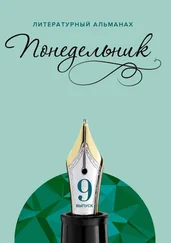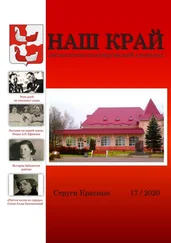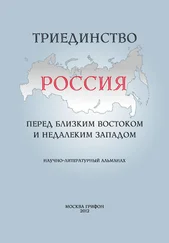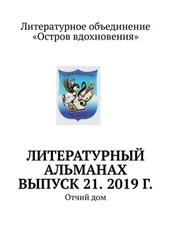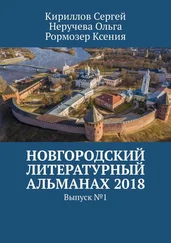Иначе складывались отношение человека с миром на буддийско-даосском Востоке. Там источник сущего Небытие, полнота непроявленного мира, ибо все явленное временно, частично и в этом смысле недостоверно. «Все вещи в Поднебесной рождаются из Бытия, а Бытие рождается из Небытия» (Даодэцзин, 40). И это мало похоже на унаследованное отношение к Небытию, Ничто на Западе. Мне уже приходилось писать, что в одном случае Ничто внушало ужас, как абсолютный конец, исчезновение, как страшная бездна, в которой все исчезает. В лучшем случае – это инертная материя, нуждающаяся в участии Кормчего, или Нуса. На Востоке же Небытие – это потенция Света и Покоя, отрада просветленного ума. Это как бы добытие, а не послебытие, то, что над двойственностью, – Основа сущего, буддийская Пустота-Шунья.
Словом Шунья в Индии обозначали «Ноль», что принципиально отличается от понимания нуля, как и точки, в западной науке, следующей заветам Аристотеля: «Нелепо при этом считать пустотой точку: она должна быть местом, в котором имеется протяжение осязаемого тела» (Аристотель, Физика, 4, 7). Для Аристотеля точка – «начало линии», а не сжатая Вселенная. Неудивительно, что на Западе, имея точку отсчета, возобладало линейное мышление, которому, однако, предназначено было перейти к «голографическому» своим путем – через освоение науки и техники, через ЭВМ, о чем уже в 1980-х годах писали ученые.
С одной стороны, эмпирическая действительность не дает представления об истинно-сущем, ибо все дефиниции иллюзорны, – говорят буддисты. С другой нирвана и есть сансара, эмпирическое бытие, – они недвойственны – говорят буддисты Махаяны не только школы Срединного Пути (Мадхьямика). Явленное Дао не есть Постоянное Дао, но они одного происхождения, напоминает Лаоцзы, соотносятся как внутреннее и внешнее, глубинное и поверхностное. Но одно не понять без другого: вечное без временного и временное без вечного. Взгляд на сущее как не-сущее определил принцип недвойственности, непротиворечивости, непротивопоставления одного другому, ибо в своей основе все Едино. В их языке отсутствует само понятие «противоположности». Говоря словами третьего патриарха чань (япон. Дзэн) Сэн Цаня: «Нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего… Одно во всем, и все в одном» («Доверяющее сердце»). Все беспрепятственно сообщается между собой. Пребывая в Пустоте, не имея помех в виде установок ума, все становится самим собой, проявляет свою природу. «Совершенный путь, – продолжает Сэн Цань, – подобен бездне, где нет недостатка и нет избытка. Лишь оттого, что выбираем, предпочитаем, теряем его. Не привязывайтесь ни к чему внешнему и не живите во внутренней пустоте. Когда ум покоится в единстве вещей, двойственность сама собой исчезает».
Одних бездна соединяет с Небом, других – разъединяет с Богом. «В Христовой Церкви ты найдешь бездну, найдешь и горы: найдешь малое число хороших людей – ведь гор тоже мало – бездна же широка: она означает множество худо живущих» (св. Августин. На псалмы, 3, 5, 10). И в «Исповеди»: «бездна призывает бездну» (XIII, 13, 14). Сергей Хоружий комментирует вековую «Ситуацию»: «Христианская онтология имеет в своей основе универсальную модель реальности – модель онтологического расщепления, где существуют два горизонта бытия: подлинное и совершенное бытие (Абсолютное, Бог) и бытие, в том или ином смысле несовершенное, недостаточное, ущербное; между ними – различие сущностей или природ, онтологическая дистанция, бездна» [245].
Можно говорить о коренном различии в понимании Изначального, вследствие чего в душах одних зародился страх перед бездной Ничто, в душах других – полное доверие, стремление уподобиться Ничто или Целому, где нет различий и предпочтений, где все Едино и ждет своего часа, ждет участия человека. В одном случае дуальная, в другом – недуальная модель мира, которые обусловили соответствующий тип мышления, психологии, логики, исторического ритма.
Итак, тип европейской цивилизации предопределен дуальной моделью мира: логика Аристотеля вплоть до XX века идентифицировалась с логикой вообще. Он же уверял: «Невозможно, чтобы одно и то же в одно и то же время было и не было присуще одному и тому же в одном и том же отношении… это, конечно, самое достоверное из всех начал» (Аристотель. Метафизика, 3, 3). И сравните с Ланкаватара-сутрой, где Будда говорит ученику: «И все же, Махамати, что же значит “недуальность”? Это значит, что свет и тень, длинный и короткий, черное и белое – суть относительные названия, Махамати, они едины, как нирвана и сансара. Все вещи нераздельны, одного нет без другого».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу