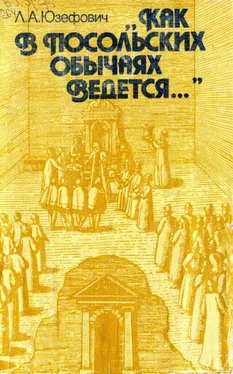Постепенно в посольских книгах сложились стереотипные словесные формулы для описания аудиенции у государя. Обычно сообщается, что послы, «посидев мало, да речи говорили». Но при описании аудиенций, дававшихся в Москве представителям крымского хана, применялись другие формулы: тот или иной ханский посланец «посолство правил, сидя на коленках», или «пришед блиско государя, сел на коленки» и т. д.
Исследователи прошлого столетия истолковывали это в том смысле, что крымские послы попросту становились на колени перед русскими государями. Однако речь здесь идет отнюдь не о коленопреклонении в собственном смысле слова. Имеется в виду восточное обыкновение сидеть на подогнутых под себя ногах. Иначе бы вряд ли, как пишет в своем статейном списке русский посол А. Д. Звенигородский (1595 г.), персидский шах мог спросить «про государево здоровье, сидя на коленках» [172] ПДТСП. — Т. 1. — С. 259.
. Несомненно, в данном случае это выражение имеет лишь вышеуказанный смысл, что подтверждается и другими примерами. Скажем, в 1611 году посланник Боярской думы П. Вражский, представ перед ногайским Иштерек-ханом, требовал, чтобы тот слушал посольские «речи» непременно стоя, а не «сидя на коленках» [173] Акты времени междуцарствия (1610–1613) // ЧОИДР. — М., 1915. — Кн. 4. — Отд. 1. — С. 13.
.
Во время аудиенций в Москве крымские дипломаты опускались, видимо, на коврик, расстеленный посреди приемной палаты. Представители Персии и Оттоманской империи подчинялись тем же правилам, что и послы христианских держав, но в отношениях с Крымом допускались отклонения в сторону восточных норм придворного этикета. Недаром всегда подчеркивалось, что это делается «по их вере», «по их бусурманскому закону, а в нашем хрестьянском обычае того не ведетца». Сидение ханских посланцев «на коленках» скорее всего было пережитком русско-ордынской дипломатической практики, как и некоторые другие элементы русско-крымского посольского обычая. К концу XVI в. эта традиция, уже не имевшая опоры в реальной политической обстановке, постепенно отмирает. Крымские послы постепенно перестали «садиться на коленки» перед царем, однако и отдельной скамьи им не ставили. Сидели они, если следовало разрешение, «в лавке околничего места» (гораздо дальше от царя, чем представители других держав) — на противоположном от престола краю приемной палаты [174] ЦГАДА. — Ф. 123. — № 21. — Л. 102, 327.
.
Речи послов обычно переводил присутствовавший на аудиенции толмач из состава посольства. При послах крымских и ногайских были толмачи русские, из крещеных татар, а на приемах польско-литовских дипломатов обходились, как правило, без переводчиков. Сам Иван Грозный, по-видимому, владел польским языком. В 1566 году на личных переговорах с литовскими послами он сказал Ю. Ходкевичу: «А которые будет речи полским языком молвишь, и мы то уразумеем» [175] Сб. РИО. — Т. 71. — С. 289.
. Интересно, что в 1573 году в Стокгольме по-польски «правил посолство» русский гонец В. Чихачев: ему заявили, что шведский король «по полски сам горазд» [176] Там же. — Т. 129. — С. 276.
.
Слова царя переводили толмачи московские. Однако государь лично задавал послам лишь церемониальные вопросы, а более пространные речи от его имени произносили посольские дьяки или другие доверенные лица, которые в этот момент идентифицировались с самим царем. В 1608 году дьяк В. Телепнев требовал, чтобы польские послы без шапок выслушали переданную через него царскую «речь», но сам при этом оставался в шапке. Бояре следующим образом объясняли законность этого требования: «Послы слушают без шапок, потому что он, государь, посольского дьяка позовет к себе и велит ему молыть свою государскую речь, что было ему, государю, своими царьскими усты послом говорити, и дьяк говорит речь от царского лица». Далее следовал риторический вопрос: «И государь подданному повинен (должен. — Л. Ю. ) ли шапку сымати?» Иными словами, Телепнев прямо объявлялся ипостасью государя в минуту произнесения им царских «речей», обращенных к «подданным» (к послам). «А коли посольский дьяк говорит послом и посланником речь при государе же не от царьского лица, — продолжали бояре, — тогда он сперва к царьскому имяни шапку сымает» [177] Там же. — Т. 137. — С. 494.
.
Аналогично обстояло дело и при передаче посольских грамот. Принимая их, посольский дьяк идентифицировался с государем, передавая грамоты в руки царя — уже нет. Поэтому в 1554 году И. М. Висковатый, будучи в шапке, взял у Р. Ченслера королевские грамоты, но, когда вручал их Ивану Грозному, шапку снял [178] Английские путешественники в Московском государстве в XVI в. — С. 57.
. Посольский дьяк на аудиенции то олицетворял своего государя, то вновь являлся в обычном своем качестве государева слуги, и превращения эти последовательно разграничивались этикетом.
Читать дальше