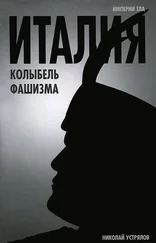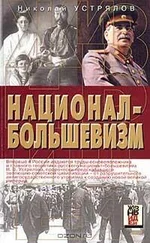Николай Устрялов - Проблема прогресса
Здесь есть возможность читать онлайн «Николай Устрялов - Проблема прогресса» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: История, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Проблема прогресса
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Проблема прогресса: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Проблема прогресса»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Проблема прогресса — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Проблема прогресса», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Говорят, история творится больше сердцем и желудком, чем головой. Но в таком случае придется констатировать, что в сердце и в желудке не меньше ума, чем в голове! "Le coeur a des raisons que la raison ne connait pas" -- гласит один из афоризмов Паскаля. Нет углубленной социологии вне философии сердца и логики желудка. Жизненная общность людей дана до общественной дифференциации и является ее предпосылкой; в свою очередь, высшая форма общества есть общение любви.
Нужно вообще расстаться с односторонними интеллектуалистскими увлечениями. Прошли времена самодержавия рационализма, с одной стороны переоценивавшего влиятельность нашего интеллекта, а с другой извращавшего его действительную природу. Погружаясь в жизненный поток, сознание наше непосредственно приобщается к реальности, отождествляет себя с нею, становится ею. В этом живом познавательном акте -- темная тень хаотической материи, но и стихийная мудрость жизненного порыва, творческой эволюции. Бывает и так, что голова, засоряясь, становится резиденцией нашего малого рассудка, а сердце и желудок -- органы инстинкта -- превращаются в агентов большого разума.
Опять -- старая формула: животное и Бог. Симфония, построенная на диссонансах, rerum concordia discors. Чтобы постичь ее лад, ее музыкальную тему, видно, нужно дослушать ее до конца: божественный удел!
Безмерно сложна жизнь, и таится в ней неисчерпаемое количество новых форм и новых содержаний... чреватых новыми антиномиями. Абсолютный масштаб может быть доступен лишь абсолютному разуму. В этом отношении права теория бесконечного прогресса: в плане времени нет конца и нет "пункта" безусловного совершенства, эмпирического финиша, "всецелого уничтожения природы свободой", по выражению романтиков. Сомнительной, однако, становится эта теория в тех своих выражениях, которые пытаются сохранить философско-исторический оптимизм при отрицании идеальной реальности Абсолютного. Нескладны по существу и те ее аспекты, которые, справедливо отвергая конечность исторического горизонта, все же представляют историческое развитие в образе имманентного совершенствования.
Прогресс -- не в беспрестанном линейном "подъеме", а в нарастающей бытийственности, в растущем богатстве мотивами. При этом совсем не обязательно, чтобы последующий мотив непременно был "совершеннее" предыдущего. Но он всегда прибавляет "нечто" к тому, что было до него. Только в этом условном понимании может быть усвоена идея "общего", "абсолютного" прогресса: она постулирует общую связь, при действительной реальности которой разрозненные в эмпирии акты осмысливаются, как моменты становящегося высшего единства.
К полноте бытия тянется все живущее, о полноте времен тоскует все преходящее. В этом тяготении, в этой вещей тоске -- словно залог всемирно-исторического смысла, утешающее обетование конечной оправданности мировой трагедии.
Н.Устрялов.
-----------------
1) В основу настоящей статьи положена вступительная лекция, прочитанная автором на Харбинском Юридическом Факультете в начале текущего учебного года.
2) "Над пошлой и философски безграмотной идеей прогресса посмеялась духовная элита; но эта идея "перешла к неграм", по выражению Кайзерлинга, овладела "черными" душами -- и сделалась фактором ужасающего регресса." (В. Н. Ильин, "Эйдократическое преображение науки" в сборнике "Тридцатые годы", 1931, стр. 126. Сборник появился после настоящей моей статьи.)
3) В русской литературе критику позитивной теории прогресса см. хотя бы у С.Н.Булгакова, статья "Основные проблемы теории прогресса" в сборнике "От марксизма к идеализму". Несостоятельность этического натурализма прочно уяснена философским сознанием со времен Канта, вскрывшего коренное категориальное различие между сущим и должным, формальную несводимость последнего к первому.
Новейшую попытку позитивистического обоснования идеи прогресса в русской литературе см. у Г.К.Гинс, "На путях к государству будущего", Харбин, 1930, глава третья.
4) К.Леонтьев, Собрание сочинений, т. V, стр. 145, 202, 360; т. VII, стр. 61, 187. В.В.Розанов, "Опавшие листья", 1913, стр. 76.
5) В русской литературе последнего времени углубленное философское опознание положительной и отрицательной любви см. у И.Ильина, "О сопротивлении злу силой", Берлин, 1925, гл. 3, 14, 15 и 16. Автор убедительно показывает отличие духовной любви от сентиментальной гуманности и приходит к заключению, что "начало духа ограничивает действие любви в ее непосредственном наивном разливе". Эта книга проф. Ильина, освобожденная от приданного ей автором злободневно-политического привкуса (достаточно безвкусного, но предметно не связанного с ее морально-философской тематикой) -- должна быть признана не только ценным критическим анализом этики Л.Н.Толстого, но и заслуживающим внимания исследованием проблемы исторического зла и его преодоления в свете религиозно-философского идеализма -- по существу.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Проблема прогресса»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Проблема прогресса» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Проблема прогресса» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.