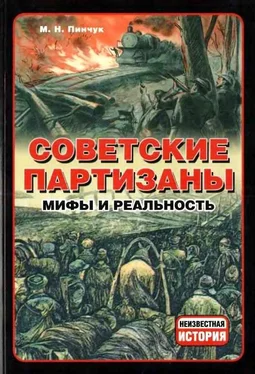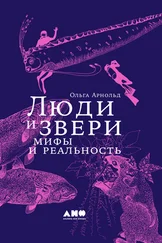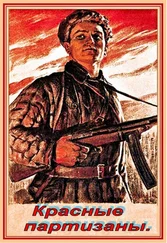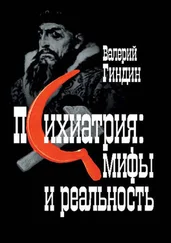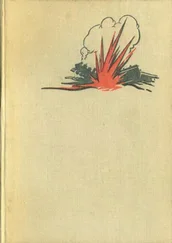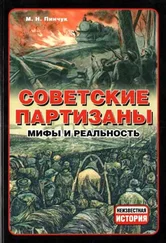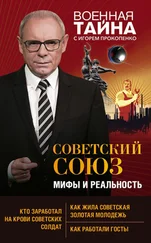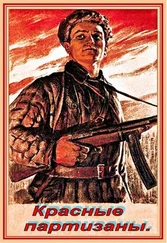Без малого 24 тысячи на всю Западную Беларусь (в среднем, 120 человек в отряде)! Прямо скажем — не густо. Но главное не это. Главное то, что местных жителей в здешних отрядах почти не было. Советские отряды были либо заброшены в Западную Беларусь из-за линии фронта, либо состояли из окруженцев и партактива (многим рядовым функционерам и «активистам» в 1941 году пришлось «хавацца ў лесе»). Организованное массовое партизанское движение в здешних краях представляли отряды Армии Краёвой.
Кроме того, более 8 тысяч из этих 24 прибыли в западные области Беларуси из восточных областей лишь осенью 1943 года [44] Высшее партизанское командование Белоруссии. 1941–1944: Справочник. Минск, 2009, с. 32.
.
Население восточной части БССР тоже не бросилось в леса при появлении немцев. Зачем? Это население существовало в условиях оккупации уже 150 лет и привыкло ко всяким оккупантам, занимая позицию выжидания.
Эстрадный юморист Михаил Задорнов, которого россияне горячо любят за его хамские характеристики всех других наций, однажды сказал, что если руководство страны прикажет, то беларусы завтра же уйдут в леса. Должен разочаровать этого завравшегося «певца» славянского триединства — в лес уйдет только номенклатура, да и то не вся.
Старшее поколение беларусов терпело беды и страдания, сжав зубы. Недовольство изредка прорывалось наружу разве что в виде частушек:
Устань Ільйч, i падзівіся,
Як колхозы разжыліся:
Пуня — ракам,
Хата — бокам,
I кабыла з адным вокам!
В отличие от «западников», беларусы центральных и восточных областей воспринимали «власть советов» уже как данность. Поэтому им было присуще любопытное разделение стереотипов: репрессии немцев — это зверства оккупантов, репрессии советских органов — произвол своих властей.
Но и здесь такая характеристика применима не ко всей массе населения, а в основном к молодому поколению (от 25 лет и моложе). Оно и понятно, ничего другого эти ребята в своей жизни не видели и не знали. Именно вчерашние комсомольцы в 1943–1944 гг. добровольно вступали в партизанские отряды.
Глава 2. Партизанские руководители
Советское партизанское движение на Беларуси было инспирировано извне. Его кураторами, организаторами и начальниками являлись не беларусы.
Немецкий исследователь Марк Бартушка в своей книге «Партизанская война в Беларуси в 1941–1944 гг.» пишет:
«Советские партизаны действовали также и за пределами территории СССР. Около 25 тысяч их сражалось в Польше и Чехословацкой Республике, где они поддерживали коммунистическое подполье»…
Надо отметить, что, во-первых, Бартушка в данном случае безосновательно называет партизанами военнослужащих РККА и НКВД, заброшенных в Польшу и Чехословакию с помощью авиации. Как мы уже выяснили в первой части книги, это диверсанты и террористы, никакие не партизаны. Во-вторых, поляки, чехи и словаки этих советских «помощников» не считали польскими, чешскими или словацкими партизанами. Они называли их «советскими».
Поэтому и у нас есть основания для того, чтобы не считать советских партизан беларускими. Более того, именно они являлись злейшими врагами местного населения, речь о чем пойдет ниже, а также в четвертой части книги.
В качестве примера здесь названы 19 известных командиров партизанских соединений, бригад, отдельных отрядов. Среди них нет беларусов. Почти все они оказались на территории оккупированной Беларуси по одному и тому же сценарию. А те подразделения, которыми они командовали, трудно назвать «партизанскими».
Банов Иван (1916–1982) — русский, уроженец станицы Тацинской Ростовской области. Кадровый офицер, в 1938 году окончил пехотное училище в г. Орджоникидзе. Осенью 1939 года участвовал в «освободительном походе», т. е. во вторжении в Западную Беларусь. С июня 1941 года — на фронте. В 1942 году его отозвали из действующей армии, обучили на специальных курсах и в августе направили на оккупированную территорию БССР — организовывать партизанское движение. «Работал» в Барановичской, Пинской и Брестской областях.
Барыкин Емельян Игнатович (1902–1951), уроженец деревни Тросна Брянской области, русский. Служил в железнодорожном полку РККА в Гомеле. После демобилизации окончил курсы помощников начальников станций в Курске. С 1937 года — на партийной работе, его назначили секретарем парткома Беларуской железной дороги. С марта 1941 года он секретарь Гомельского горкома партии. Когда началась война, стал комиссаром партизанского отряда «Большевик». Как видим, и в этом случае ничем беларуским «не пахнет». Выходца из России назначили руководителем в 1937 году, когда беларуских руководителей и специалистов расстреливали по 100 человек в день и больше! А освободившиеся места замещали кадрами из России. Это была одна из многих форм русификации.
Читать дальше