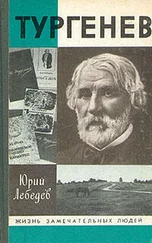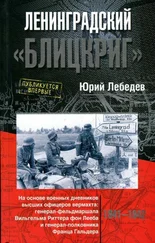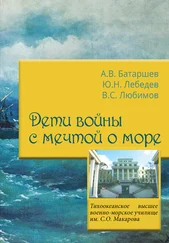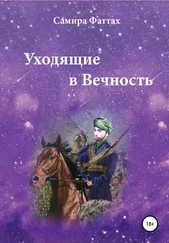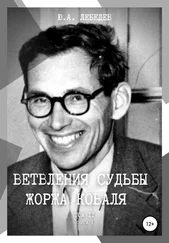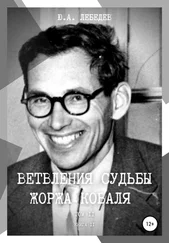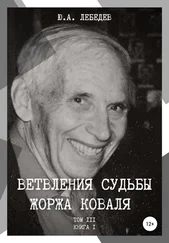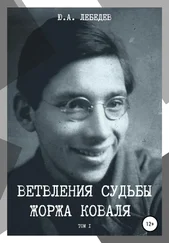К сожалению, наверное, никогда не удастся точно установить число погибших там. Но реально оценивать ситуацию надо, отделяя потери в боях за овладение плацдармом и на самом пятачке. Самые крупные потери несли наши войска на правом берегу Невы в местах переправ и при форсировании реки. Здесь были сконцентрированы все силы атакующей стороны. В этот момент солдат еще не был готов к бою и оставался полностью беззащитным, не имея возможности укрыться от воздушных налетов противника и артиллерийского огня. А именно от него был наибольший урон. Уже к концу сентября 1941 года немцы подвели к Неве дивизион артиллерийско-инструментальной разведки, который с точностью до метра просчитал данные по всем участкам переправ советских войск. После чего были созданы три артиллерийские группы: «Север», «Центр» и «Юг», расположившиеся на Невском фронте от Шлиссельбурга до Отрадного. Крупнокалиберная артиллерия, в том числе специально доставленные французские 150-мм гаубицы и 210-мм минометы были укрыты на Келколовских высотах. Из района Синявино огневую поддержку оказывали орудия 227-й пехотной дивизии. Большие потери среди наших войск вызывала вражеская авиация из состава немецкого 1-го Воздушного флота, так как у советской стороны, особенно в начальный период, не было достаточного количества средств противовоздушной обороны.
Оценочно можно все-таки ориентироваться на цифру в 50 тысяч советских солдат, погибших на самом Невском плацдарме, учитывая при этом, что были не только периоды наивысшего напряжения боев, но и отдельные паузы, когда в основном велась снайперская война. Не следует забывать, что полгода – с конца апреля до середины сентября 1942 года – территория пятачка была в руках немцев. Необходимо также помнить о том, что изза его крошечных размеров (около двух километров по фронту и до 800 метров в глубину) практически не было возможности размещения там большого количества войск. Однако даже это количество, уменьшенное в четыре раза в сравнении с официально признанными данными, заставляет задуматься о величии самопожертвования людей, шедших фактически на верную смерть. До сих пор поисковые отряды находят сотни останков погибших, лежащих там в несколько рядов.
Немецкие потери убитыми в боях за Невский плацдарм составляют оценочно около 10 тысяч солдат. Все эти данные подлежат уточнению. Но хорошо бы их считать отправными, поскольку они в любом случае реальнее тех, что до сих пор фигурируют в официальных источниках.
Бои за Невский плацдарм уходят в историю вместе с его участниками. А вместе с ними постепенно стирается память о тех событиях. Это естественный, хотя и грустный процесс. Поэтому сегодня все более актуальным становится вопрос: как продлить эту память, это чувство сопричастности к героической трагедии Невского пятачка? Как не броситься в очередную крайность, говоря о бессмысленных жертвах войны, забывая, что защитники плацдарма приближали победу?
Отрадно, что мероприятия по случаю 70-летия Великой Победы вызвали дополнительный приток военно-исторических исследований, эмоциональных воспоминаний, дискуссий, дифирамбов, а также критических замечаний. Но вместе с тем хотелось бы, чтобы при этом соблюдалось этическое чувство меры при описании боев за плацдарм на Неве. Это необходимо во имя погибших солдат и ради здравствующих ветеранов Невского пятачка и битвы за Ленинград.
Блокадный дневник Клавдии Никифоровой
С «Блокадным дневником» Клавдии Ивановны Никифоровой я познакомился во время съемок документального фильма о Невском пятачке. Режиссер фильма Нина Прахарж дала мне посмотреть рукописную тетрадь. Это была копия воспоминаний блокадницы о страшном военном времени. В них ясным почерком были помещены и три небольших стихотворения. В предисловии к дневнику обратила на себя внимание такая запись: «Завещан моей внучке Власовой Анне Валерьевне». Приложен был также адрес самой Клавдии Ивановны в Ульяновске и ее телефон.
Мне стало интересно узнать, где находится оригинал дневника, жив ли автор, и если да, то имеется ли возможность поговорить с этой женщиной, так просто и доступно написавшей о величии подвига и человеческом горе ленинградцев. Не откладывая дела в долгий ящик, позвонил в Ульяновск и имел счастье разговаривать с самой Клавдией Ивановной, которая любезно поведала историю одного из своих стихотворений, помещенных в дневнике. Написала она его в самое смертное блокадное время, когда многими ленинградцами овладела безысходность, они подошли к краю пропасти, из которой уже не могло быть возврата. По своему стилю и ритмике стихотворение созвучно «Казачьей колыбельной» Михаила Лермонтова. Написано оно было в феврале 1942 года, называется «Блокадная колыбельная».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу