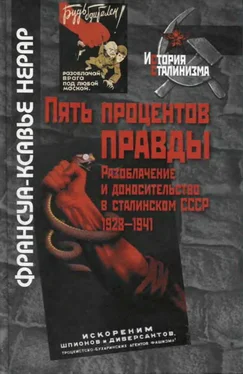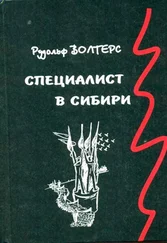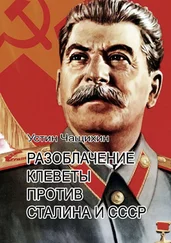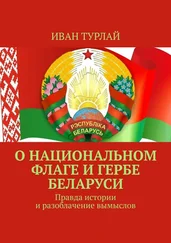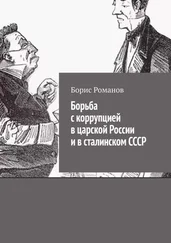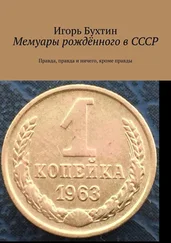А.И. Капустин возглавляет отдел писем с 1 января 1937 года. Его настоящая фамилия Бардин, он — бывший типографский рабочий из Тверской области, ставший редактором «Тверской правды». Работает в центральном органе партии с 1928 года {605} 605 Там же. Д. 318.Л.89.
(в 1933 году руководил отделом транспорта {606} 606 Там же. Л. 84.
). Капустин начал политическую деятельность во время революции 1905 года и вступил в большевистскую партию в 1918 {607} 607 Там же. Д. 317. Л. 35–36.
. Таким образом, он компетентен как профессионально, так и политически. Его статус в редакции достаточно высок, так как одновременно он возглавляет профсоюзную организацию. Два его заместителя, Гришелевич и Солодов, являются членами ВКП(б) с 1929 и с 1925 годов соответственно. Таким образом, не будучи особо важными персонами, руководители отдела тем не менее политически состоятельны.
В этих двух службах с 2 декабря 1938 года работают 41 человек, в основном женщины (как минимум тридцать одна, т. е. три четверти). В расчете на 276 постоянных сотрудников газеты, о которых удалось узнать, это означает каждый седьмой: 28 человек в отделе писем и 13 в корреспондентском бюро. Однако, по словам Капустина, хронически ощущается недостаток кадров {608} 608 Там же. Д. 318.Л.80.
, в частности «читчиков» писем. Постоянные сотрудники не справляются. Сам Капустин признает, что перегружен работой. По его собственным утверждениям, он работает ежедневно от двенадцати до четырнадцати часов в день и без отпусков {609} 609 Там же. Л. 79.
. Распорядок рабочего дня одной из его подчиненных, А. Черствой, также говорит о многом: по ее словам, она проводит двенадцать часов в день в отделе (с 10 до 22 часов) и еще четыре часа тратит на то, чтобы туда добраться {610} 610 Там же. Д. 319.Л.212
. Чтобы обеспечить нормальную работу отдела, Капустину приходится прибегать к помощи сотрудников других отделов и служб и платить им по 80 копеек за письмо и даже брать на временную работу студентов Высшей школы журналистики: «внештатники» обходятся, по его данным, так же дорого, как и постоянные сотрудники, около 10 000 рублей в месяц {611} 611 Там же. Д. 318. Л. 79.
.
Все письма открывает и сортирует один человек, О. Яковлева, технический сотрудник корбюро, беспартийная. Она должна просмотреть их, затем рассортировать в зависимости от содержания. После первой сортировки, письма регистрируются на карточках другими сотрудниками бюро, а затем, под расписку, передаются в различные отделы газеты {612} 612 Там же. Д. 317.Л.39.
. Большинство поступает в отдел писем, который обрабатывает до двух третей получаемой корреспонденции (119 525 из 180 000 писем, полученных в 1938 году {613} 613 Там же. Л. 40.
). Наиболее узко специализированные поступают в работу непосредственно к журналистам или заведующим отделами «Правды». Но для оставшейся части писем, тех, что требуют «особого внимания», процедура иная. После ознакомления заведующий корбюро передает их непосредственно в руки либо членам редакционной коллегии, либо заведующему отделом писем А.И. Капустину. У Суворова есть тетрадь, где он фиксирует эти письма, и где расписываются те, кому он их передает. Такие письма именуют «особыми» и пересылают в НКВД. По словам Капустина, это в большинстве своем анонимки, содержащие информацию о пытках, «использовании НКВД методов физического воздействия во время допросов». Такие письма попадают в как можно меньшее число рук, чтобы «избежать дискредитации НКВД» {614} 614 Там же. Д. 318. Л. 80–81. См. также далее и нашу статью в «Cahiers du monde russe».
, их отправляют прямо в секретариат Ежова, даже не ставя в известность секретариат Сталина.
Отдел писем организован по географическому принципу и разделен на шесть территориальных групп (например, Москва и область, Ленинград и Дальний Восток, Северный Кавказ, Северо-Восточные области), в которые входят один или два «читчика» и секретарь. Полученные письма затем сортируются по областям. Часть писем немедленно сдается в архив (5838 писем за последние пять месяцев 1938 года), и понять критерии, по которым эти письма обрекаются на забвение, невозможно {615} 615 Там же. Д. 317. Л. 47.
. [195] Эти письма оцениваются как «не важные» и им не дают хода, о чем часто даже не уведомляют авторов.
После прочтения остальные письма пересылаются — из-за отсутствия персонала, который мог бы непосредственно заниматься расследованием {616} 616 Там же. Д. 319. Л. 212.
, [196] Это происходит в частности с некоторыми «московскими делами». См.: Там же. Л. 106 или 138–139.
— в область для дальнейшей работы: «отдел писем является по существу только пересылочным пунктом» справедливо замечено в одном из отчетов служебной проверки {617} 617 Там же. Д. 317. Л.41.
. К этим письмам прилагается стандартный сопроводительный бланк, каких можно встретить тысячами в центральных и областных архивах. Параллельно отправителю письма высылается информация о том, куда оно направлено [197] См., например, сопроводительные документы, составленные Хайкиной (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 120. Д. 319. Л. 93 и далее.). Речь идет примерно о таких формулировках: «Пересылаем письмо Р.» и «Ваше письмо мы переслали г. Москва, в Главное Управление <���…> для расследования, принятия мер. Сообщение о результатах вы получите из Главного Управления <���…> Туда же вам необходимо посылать все дополнительные сведения и запросы».
.
Читать дальше