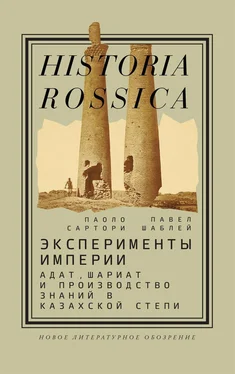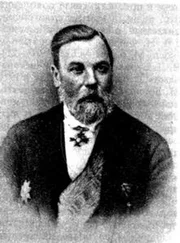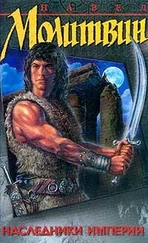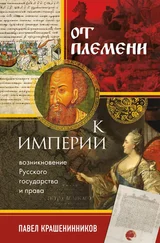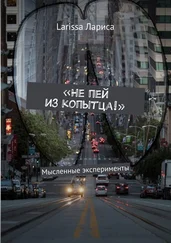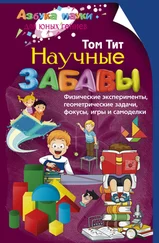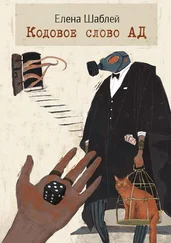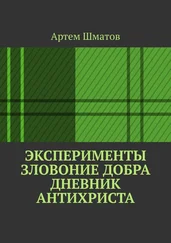1 ...8 9 10 12 13 14 ...20 Некоторые исследователи придерживаются мнения, что уже в первой половине XVIII в. политика Российской империи по отношению к казахам Младшего и Среднего жузов носила колониальный характер. Ее основные проявления – это лишение казахских ханов возможности осуществлять самостоятельную внешнюю политику [79] Кузембайулы А., Абиль Е. А. История Казахстана (с древнейших времен до 20‐х годов ХХ века). Алматы, 1996. С. 27.
и казачья колонизация, которая не ограничивалась строительством военно-укрепленных линий, но включала в себя походы вглубь степи, изъятие земель у местных жителей и убийство мирного населения [80] Абдиров М. Ж. Завоевание Казахстана царской Россией и борьба казахского народа за независимость (Из истории военно-казачьей колонизации края в конце XVI – начале XX вв.). Астана, 2000.
. Нет сомнений, что эти явления достаточно хорошо вписываются в природу колониальных империй и колониальной политики как таковой, однако вопрос о чертах российского колониализма в Казахской степи не разработан на глубоком теоретическом уровне. Проводя подобное исследование, необходимо сделать сравнительный анализ региона с опытом колониальной политики европейских держав в Африке, Юго-Восточной Азии, Океании и на других территориях.
В последнее время делаются попытки комплексного изучения процессов и событий, происходивших в Казахской степи и на сопредельных территориях. В недавно вышедшей в свет монографии японский исследователь Джин Нода справедливо указывает на то, что изучение общественно-политической истории казахов в XVIII – первой половине XIX в. только с точки зрения казахско-русских отношений и на основании соответствующих источников ведет к ограниченным результатам. Он обращает внимание читателей на широкую панораму событий и контекстов, фокусируясь на нескольких векторах развития политического процесса: казахи и Цинская империя, Российская и Цинская империи. При этом казахи пытались взаимодействовать с каждой из вышеназванных империй своим собственным оригинальным способом. В свою очередь Российская империя, учитывая влияние Цинской империи (казахи Среднего жуза признавали себя подданными не только России, но и Китая) на земли современного Восточного и Юго-Восточного Казахстана, вынуждена была проводить на территории Среднего и Старшего жузов более умеренную политику, отличную от той, которая велась в Младшем жузе [81] Noda J . The Kazakh Khanates between the Russia and Qing Empires. P. 101–120, 137, 140–142.
.
Смешение разных форм политического взаимодействия, многообразие региональных особенностей и сложность сопредельных контактов, а также отсутствие какой-либо строгой понятийной верификации правового статуса территорий Казахской степи в XVIII – первой половине XIX в. требует анализа процессов не только на глобальном, но и на локальном уровне. Один из вариантов этого направления исследования – изучение пограничных обществ. К наиболее разработанным моделям такого взгляда относится обращение к истории взаимодействия кочевников с казаками. Недавно эту попытку осуществил Ю. Маликов, взяв за основу взаимоотношения казахов, проживавших на территории современного Северного Казахстана, с казаками Сибирского казачьего войска [82] Malikov Yu. Tsars, Cossacks, and Nomads: The Formation of a Borderland Culture in Northern Kazakhstan in the 18th and 19th Centuries.
. Однако, несмотря на всю привлекательность фронтира, его инструментарий следует применять с большой осторожностью. Основные замечания в адрес работы Ю. Маликова заключаются в том, что не всегда инварианты фронтира (в данном случае опора на работу Томаса Баррета по Северному Кавказу и заимствование его идеи «линий неопределенности» [83] См.: Barrett T . At the Edge of Empire. The Terek Cossacks and the North Caucasus Frontier, 1700–1860.
) могут быть успешно экстраполированы на другие контактные зоны. Выводы о том, что взаимопроникновение между казачьей и казахской культурами обеспечивалось благодаря отсутствию у каждой из групп «сильной» этнической и религиозной идентичности, также не являются убедительными [84] См. строгую, но справедливую критику этой работы: Kendirbai G. Review of Yuriy Malikov. Tsars, Cossacks, and Nomads: The Formation of a Borderland Culture in Northern Kazakhstan in the 18th and 19th Centuries. Berlin, 2011 // Ab Imperio. 2012. No. 3. P. 428–434.
. Как минимум такое заключение требует анализа разных источников, а не только имперских нарративов, представлявших казахов в качестве «поверхностных мусульман». Идея нашей работы заключается в том, что новая имперская ситуация создает новую фронтирную историю. Ее контекст и характер взаимодействия между пограничными обществами сложно моделировать на основе уже имеющихся аналогов. Особенности этнической, религиозной идентичности, социальный состав пограничных обществ, поддержка властями одних групп в ущерб другим не всегда являются определяющими факторами. Более существенную роль играют возможности и ресурсы (или их отсутствие), которые обеспечивает фронтирная зона.
Читать дальше