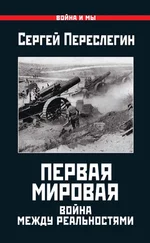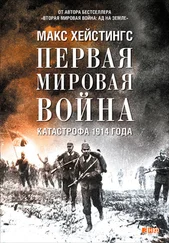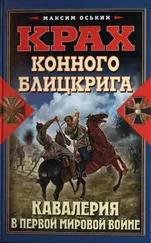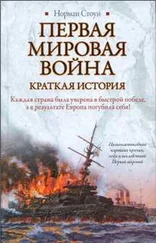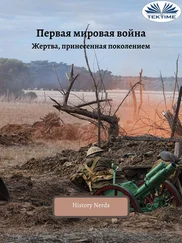Финансовая зависимость от Франции неизбежно влияла и на стратегическую зависимость России. На предвоенных совещаниях Генеральных штабов французы предъявляли все новые и новые требования, а русские искали возможности и способы надлежащего удовлетворения претензий союзников. С каждым новым военным совещанием, проходившим в 1900, 1901, 1906, 1907, 1908, 1910, 1911, 1912, 1913 годах, русское оперативно-стратегическое планирование войны против Германии и Австро-Венгрии все более зависело от мнения своего французского союзника. Если в 1892 году ген. Н.Н. Обручев был совершенно свободен от давления союзников на свои военные планы, а в 1900 – 1904 годах ген. А.Н. Куропаткин мог разговаривать с французами на равных, то теперь руководители русского военного ведомства были вынуждены плестись в фарватере французских предложений. В частности, в начале 1912 года «Россия согласилась с предложением Франции скреплять протоколы совещаний начальников Генеральных штабов двух стран подписями министров. Это придавало им характер правительственных документов» [39] Игнатьев А.В. Сергей Дмитриевич Сазонов // Вопросы истории, 1996, № 9, с. 30.
.
Так, в августе 1911 года на совещании в Красном Селе начальник французского Генерального штаба генерал Дюбайль заявил, что русским необходимо приковать на Востоке пять-шесть германских армейских корпусов. Вряд ли французы имели в виду резервные корпуса, существование которых в 1914 году оказалось для них неприятным сюрпризом. Очевидно, что речь шла о перволинейных армейских корпусах. В 1914 году таковых на Востоке оказалось всего три (на Западе – двадцать два). Предполагалось, что помимо сковывания этих пяти-шести корпусов стремительное русское наступление в глубь Германии вынудит немцев ослабить свою группировку на Французском фронте еще до того, как французы потерпят решительное поражение. При этом Австро-Венгрия в расчет как бы особенно-то и не принималась. А ведь это почти восемьсот тысяч штыков и сабель перволинейных войск в 1914 году – восемнадцать корпусов по организационной составляющей.
Действительно, на прошедших в период с 1900 по 1913 год десяти совещаниях между французским и русским Генеральными штабами в конечном счете было закреплено подчинение русского стратегического планирования французским интересам. Это заключалось и в признании нанесения удара по Германии как минимум значительными силами (со своей стороны, русские всегда стремились бить по Австро-Венгрии), и в согласии на переход в наступление русских армий после пятнадцатого дня мобилизации (окончание русского сосредоточения предполагалось на сороковой день со дня объявления мобилизации). И дело даже не в том, что все это было в принципе правильно. Просто на осторожные русские намеки относительно принятия французской армией концепции стратегической обороны в первый месяц войны французы не обратили внимания.
Если до 1911 года, когда во французской военной мысли главенствовали идеи «старой школы», которая предполагала как раз стратегическую оборону как реальный шанс остановить немецкий «план Шлиффена», то впоследствии верх взяли мысли Ф. Фоша и ему подобных теоретиков, проповедовавших безудержное наступление как якобы исконно присущую французской военной машине доктрину. Теперь французы, по примеру Наполеона, собирались только наступать, и наступать непременно во что бы то ни стало.
Русские никак не смогли переломить этих настроений, вызванных исключительно политической конъюнктурой и честолюбивыми амбициями новых выдвиженцев. Соответственно, французы стремились не только скорректировать в свою пользу планы русского Генерального штаба, посвященные предстоящей войне, но и установить контроль над усилиями русской армии, чтобы использовать по максимуму потенциал своего союзника. Имеется в виду, в первую голову, использовать такой значимый козырь, как численность русской армии – «русский паровой каток», как называли русскую армию на Западе. При этом операции на Западном фронте практически не подлежали обсуждению: французов более интересовало русское вторжение в Германию.

В окопах
Согласно предвоенным договоренностям, русские армии должны были нанести удар по цитадели германской монархии – Восточной Пруссии. Тем самым наступление на Берлин, чего требовали французы, откладывалось на некоторый срок, ибо русским следовало обезопасить свое движение к немецкой столице от флангового контрудара, каковой мог быть нанесен из Восточной Пруссии. Таким положением дел французы в принципе были удовлетворены, так как предполагалось, что и в этом случае немцы будут принуждены ослабить свою группировку, действующую во Франции. Но ясно, что прямое наступление на Берлин тем более вынуждало германское командование к переброске части войск с Запада на Восток, в чем, собственно говоря, и заключалась основная идея взаимодействия стратегий союзников по Антанте в начале войны против Германии и ее сателлитов.
Читать дальше
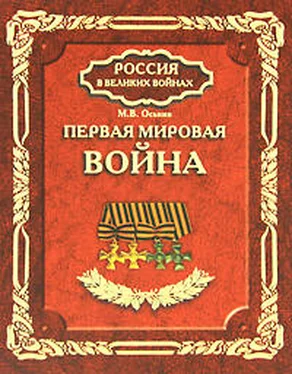

![Юджин Роган - Падение Османской империи [Первая мировая война на Ближнем Востоке, 1914–1920]](/books/26025/yudzhin-rogan-padenie-osmanskoj-imperii-pervaya-miro-thumb.webp)