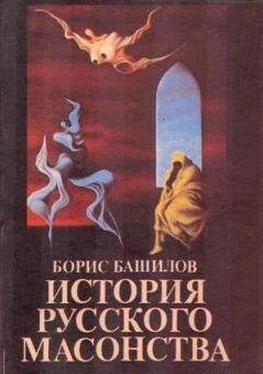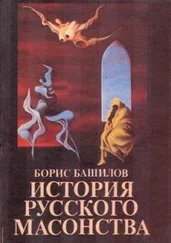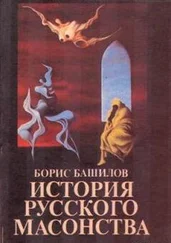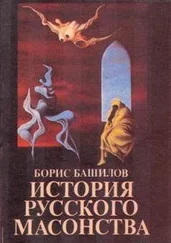Своими святыми, эти непохожие на других люди, члены возникающего Ордена Р. И., делают декабристов: «пять виселиц, — пишет Герцен, — сделались для нас пятью распятиями». «Казнь на Кронверкской куртине 13 июля 1846 года не могла разом остановить или изменить поток тогдашних идей; (то есть поток идей порожденных вольтерьянством, масонством. — Б. Б.) и действительно, в первую половину Николаевского тридцатилетия, продолжалась, исчезая и входя внутрь, традиция Александровского времени и декабристов». А основной традицией Александровского времени, основной традицией декабристов были масонские традиции (см. Борис Башилов. «Александр I и его время» и «Масоны и заговор декабристов»). Молодое поколение, вставшие окончательно на сторону Петра I, в первое время идейно примыкает к вольтерьянцам и масонам, враждебно относившимся к Николаю I и принятому им направлению, за разгром декабристов и запрещение масонства. «Признаком хорошего тона служит, — свидетельствует Герцен, — обладание запрещенными книгами. Я не знаю ни одного порядочного дома (т. е. дома русских европейцев. — Б. Б.), где не было бы сочинения Кюстина о России, которое Николай особенно строго запретил в России». Признаком «хорошего политического вкуса» в вольтерьянских, и масонских и около масонских кругах. считалось не только иметь запрещенные книги, но и осуждать царя и ругать его и правительство во всех случаях. Этому правилу следовали в очень широких кругах образованного общества. Из донесения полиции, например известно, что между «Дамами, две самые непримиримые и всегда готовые разорвать на части правительство» — княгиня Волконская и генеральша Коновницына. Их частные кружки служат средоточием для всех недовольных, и нет брани злее той, какую они извергают на правительство и его слуг». У жены министра иностранных дел гр. Нессельроде в доме по-русски говорить не полагалось.
Таких «политических» салонов было немало в Москве, Петербурге, в других городах и в помещичьих усадьбах. Большая часть русского общества, вплоть до появления Пушкина была в значительной части своей загипнотизирована идеями вольтерьянства и масонства и свыклась с мыслью, что Европа является носительницей общемировой культуры и Россия должна идти духовно у нее на поводу.
В 30-х годах сторонники национального направления и западники (из которых в 40-х годах возникает Орден Р. И.) еще исповедовали почти одни и те же идеи, причем руководящей идеей является возникшее на немецкой философской почве учение о народности, как о особой культурной индивидуальности, учение о «призвании» каждой крупной нации. Подобный подход неизбежно поднимал вопрос о смысле исторических циклов и о месте России в ходе всемирной истории. «В 30-х годах впервые возникает и отчетливо формулируется проблема «Россия и Запад», и, в разработке этой проблемы принимают участие все выдающиеся умы того времени. По свидетельству современников, именно в эти годы начались те беседы и споры в кружках — сначала московских, а потом петербургских, из которых впоследствии вышло западничество и славянофильство». «Тридцатые годы еще не знали тех острых разногласий, какие выдвинулись в следующее десятилетие, — но именно потому, что тогда существовало духовное единство, две центральные идеи того времени, идея народности и идея особой миссии России в мировой истории — остались общими и для ранних славянофилов, и для ранних западников. То, что было посеяно в 20-х годах и развивалось в духовной атмосфере тридцатых годов, различно проявилось лишь в сороковых годах». (В. В. Зеньковский. Русские мыслители и Европа. Стр. 37–38).
Даже будущие основатели Ордена Р. И. — этого прямого духовного потомка запрещенного русского масонства, Бакунин и Белинский, одно время высказывали склонность повернуться лицом к России. Бакунин, а под его влиянием Белинский, «примиряются с русской действительностью».
Идейный разлад в русском образованном обществе как будто бы теряет свою остроту и появляется надежда, что оно с большим или меньшим единодушием, пойдет вслед за Пушкиным по дороге национального возрождения. Одно время Бакунин, например, писал, что «должно сродниться с нашей прекрасной русской действительностью и, оставив все пустые претензии, ОЩУТИТЬ В СЕБЕ, НАКОНЕЦ, ЗАКОННУЮ ПОТРЕБНОСТЬ БЫТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ ЛЮДЬМИ». А Белинский, находившийся в это время целиком под духовным влиянием Бакунина, не только примиряется с русской действительностью, но и горячо пишет, точно также как и Пушкин и Гоголь о священном значении царской власти.
Читать дальше