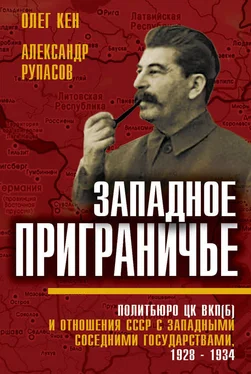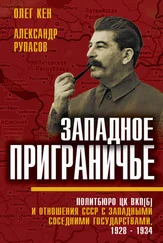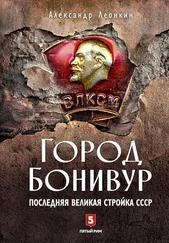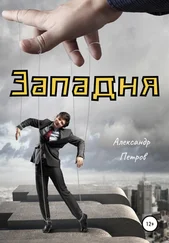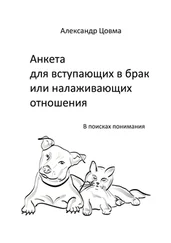Вынужденная односторонность советской политики отчасти компенсировалась дружественными отношениями с Турцией, до середины 30-гг. соглашавшейся играть роль младшего партнера СССР [247]. Культивирование отношений с Анкарой позволяло Москве нейтрализовывать потенциальную угрозу на южном европейском фланге и спокойно взирать на раздираемую клановой борьбой, слабую в военном и экономическом отношении Румынию [248]. Скверное управление бедной Бессарабией превращало ее в уязвимую, податливую для воздействия Советов область. В октябре 1924 г. (вслед за провалом венских переговоров и накануне принятия решений о свертывании «боевой и повстанческой работы» в Бессарабии) Москва и Харьков создали Молдавскую автономию с центром в Балте (Тирасполе), расположенной на пограничной «линии реки Днестр» [249]. Соседство с Румынией беспокоило советское руководство постольку, поскольку оставались в силе и развивались ее военно-политические контакты с союзницами (Польшей и Чехословакией) и великими державами (Великобританией и Францией), и потому предложения чехословацкого или польского посредничества для урегулирования взаимоотношений Москвы и Бухареста представлялись ему контрпродуктивными [250].
К концу первого десятилетия отношений Советов с окружающим миром вполне определился отказ России от Черноморской и Балканской ориентации предвоенного и военного времени, о лучшем хранителе Проливов, чем кемалистская Турция, думать пока не приходилось. Бывшие российские союзники и клиенты находились на периферии забот Кремля, и пророчества полпреда в Праге о том, что Чехословакия «раньше или позже станет нашим форпостом в Центральной Европе и на Балканах» [251]на протяжении 20-х гг. были лишены актуального смысла. Напротив, «балканизация» Северо-Восточной Европы после мировой войны, утрата стратегически важных рубежей на Балтике превратили этот регион в средоточие жизненно важных интересов Советской России. Если влияние в нем Польши могло быть уравновешено совместным сотрудничеством СССР с Германией (в частности, по поддержке Литвы), то предотвратить британское проникновение в Восточную Балтику Советский Союз был совершенно не в состоянии и потому находился в зависимости от доброй воли Лондона, которому приписывалось авторство плана, «направленного к тому, чтобы у нас на границе создать кольцо в целях окружения Советского Союза» [252]. Между тем, вовлеченность СССР в гражданскую войну в Китае и попытки проведения активной политики на Среднем Востоке делали конфронтацию с Великобританией неизбежной. Давно назревавший разрыв советско-английских дипломатических отношений в мае 1927 г. дал сигнал неподдельной военной тревоге [253]. В этих условиях позицию стран-лимитрофов относительно условий заключения пактов ненападения с СССР Москва рассматривала как попытку поставить их «в зависимость от Финляндии и Эстонии, в которых доминирует английское влияние» и как подтверждение своих опасений, что Польша «хочет в отношении СССР быть грозным, боевым авангардом Европы (и прежде всего Англии)» [254].
Провал усилий прорвать политико-дипломатическое окружение на западной границе и добиться заключения договоров о ненападении и нейтралитете с сопредельными государствами Северо-Восточной Европы в сочетании с разрывом дипломатических отношений с Англией, завершением советско-французской конференции о долгах (1926–1927 гг.), высылкой из Франции полпреда СССР, наконец, стратегическим поражением Советов в Китае (понимавшимся как «авангардный бой между Москвой и Лондоном» [255]) – подводил к пониманию необходимости изменений внешнеполитического курса («мы должны маневрировать») и даже к выдвижению альтернативного подхода. Предложения, исходившие от заместителя наркома иностранных дел М.М. Литвинова и встречавшие понимание «кое-где в сферах более высоких», включали признание дореволюционных долгов, частичный отказ от монополии внешней торговли, уход из Китая – и «правый маневр о внутренней политике» [256]. Являясь сторонником сохранения возможно более тесных отношений с Германией, Литвинов исходил из того, что, в отличие от нее, «Англия представляет собой страну империалистически пресыщенную. Последняя война по своим результатам не могла не разочаровать господствующих классов Англии и отбить у них на долгое время охоту к повторению авантюры. Пацифистские настроения там настолько сильны, чтобы в зачатке парализовать новые военные походы» [257]. Это создавало возможность преодоления острого соперничества и конфронтации с Великобританией ценой уступок в областях, по мнению Литвинова, не являвшихся жизненными важными для советского государства. Для высшего руководства эти предложения, затрагивавшие не только внешнюю, но и внутреннюю политику СССР, оказались неприемлемы. В начале 1928 г. это отчетливо показало «Шахтинское дело» и сделанные в связи с ним заявления Генерального секретаря ЦК ВКП(б) [258].
Читать дальше