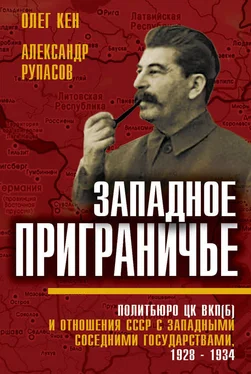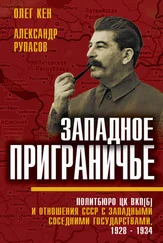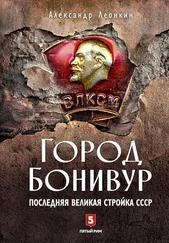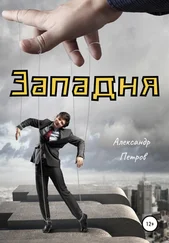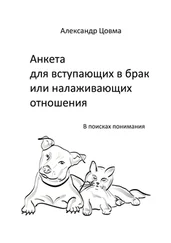Разумеется, неполнота информации о внешнеполитической деятельности Политбюро не позволяет исключить наличие у него документально оформленных планов или согласованной системы представлений о задачах и методах проведения иностранной политики. Несомненно, однако, что Политбюро ЦК ВКП(б) не рассматривало и не принимало решений, утверждавших внешнеполитическую программу СССР, а его поведение, в связи с разногласиями между Литвиновым и Сталиным относительно переговоров с Польшей о пакте ненападения дает основания сомневаться в существовании известного членам Политбюро плана действий даже на ближайшую перспективу. Внимательные наблюдатели констатировали, что «политическая тактика СССР всегда идет по линии сосредоточения усилий на очередных задачах». «СССР проводит свою внутреннюю и зарубежную политику «рывками» (ударная система), порой – огромными, и занимается исключительно одним из наиважнейших для себе дел в ущерб остальным. Временами пренебрегает политикой на Западе ради того, чтобы все силы направить на Восток – или наоборот. Однако это не мешает тому, чтобы лучше или хуже разделавшись на время с одним из дел, в данную минуту выкинувшихся на передний план, неожиданно наброситься на другое, совершенное иное, и, в свою очередь, атаковать его с тем же напряжением энергии, что и предыдущее» [215].
По крайней мере, до рубежа 1931–1932 г., когда советское руководство озаботилось созданием надведомственных внешнеполитических органов [216], деятельность Политбюро по руководству советской политикой, прибегая к обычным сравнениям, можно уподобить действиям капитана и его помощников, проводящих время в кают-компании в ожидании беспорядочных докладов о подводных течениях, направлении ветра и приближении к рифам. Не располагая картой, команда время от времени сверяет свой путь с солнцем, но считает излишним беспокоиться из-за того, что маршрут не проложен. Она верит, что, если сохранять корабль в целости и не слишком часто поворачивать назад, мировая стихия перенесет его к берегам по другую сторону океана. Отметки в судовых журналах позволяют вычертить общий маршрут некогда самонадеянного корабля. Вряд ли, однако, следует поддаваться соблазну считать проделанный им путь результатом следования определенным курсом, даже если капитан время от времени отдавал распоряжения о поворотах руля. Это применимо и к эволюции советской политики 20-х – 30-х гг. в отношении западных соседних государств. Она свершалась при преобладающем воздействии международных факторов, ее приоритеты и пределы определялись характером режима и внутренними обстоятельствами. Руководство внешней политикой со стороны Политбюро состояло в каждодневном соединении первых со вторыми.
* * *
Временная утрата статуса великой державы и первостепенность забот об обеспечении безопасности СССР, прочности социально-политического строя, утвердившегося на большей части бывшей Российской империи в 1917–1921 гг., обусловили характерную для советской политики конца 1920-х – начала 1930-х годов сосредоточенность на упрочении своего положения в восточноевропейском регионе.
Формирование новых государств Восточной Европы оказалось переплетено с военно-политическими конфликтами, наследие которых легло тяжелым бременем на отношения большевистской России со своими соседями. Наиболее продолжительным из них явилась борьба за Эстонию в конце 1917 – декабре 1919 г. Подписанный 2 февраля 1920 г. Тартуский мирный договор стал первым из череды аналогичных трактатов, подведших черту под усилиями по установлению советского строя в странах Балтии и подтверждавших их независимость и государственную самостоятельность, – с Литвой (12 июля 1920 г.), Латвией (11 августа 1920 г.) и, наконец, с Финляндией (14 октября 1920 г.). Основополагающее значение для системы международных отношений в Восточной Европе имел Рижский мирный договор между советскими республиками (РСФСР, УССР, БССР) и Польским государством. Заключенный 18 марта 1921 г. после ожесточенной войны, разыгравшейся на пространстве от Смоленска и Киева до Львова и Варшавы, Рижский мир перечеркнул грандиозные замыслы обеих сторон – Федеративной Польши и Советской Европы [217]. Отделенная от Советских республик географическим барьером новая Чехословакия также оказалась косвенным участником гражданской войны в России. Выдающаяся роль Чехословацкого корпуса, с конца 1918 г. официально подчинявшегося правительству в Праге, в событиях в Поволжье, Сибири и на Урале во многом осложнила становление межгосударственных отношений между Советской Россией и Чехословацкой Республикой. Лишь в апреле 1922 г. между этими странами было достигнуто соглашение об ограниченном взаимном признании и установлении отношений де-факто. Враждебные отношения между советскими властями и Румынией не переросли в масштабный конфликт, несмотря на разрыв Бухарестом «русско-румынского соглашения об очищении Румынией Бессарабии» немедленно после его подписания в марте 1918 г. Добившись от европейских держав-победителей (Англия, Франция, Италия) признания «объединения Бессарабии с Румынией» (Парижский протокол от 28 октября 1920 г.), Румыния создала непреодолимое препятствие на пути установления отношений с СССР. В 1921 г. руководство ЦК колебалось, склоняясь то к насильственному занятию Бессарабии («эта мысль очень соблазняла Ильича»), то к готовности на нормализацию отношений с Румынией при фактическом признании принадлежности ей Бессарабии [218]. В отличие от советского, румынское правительство исходило из отсутствия состояния войны между СССР и Румынией [219], но прелиминарные переговоры о нормализации отношений и мирном договоре (Варшавская конференция (сентябрь-октябрь 1921 г.) и Венская встреча (март-апрель 1924 г.) закончились провалом. Вплоть до 1929 г. советско-румынские отношения не были урегулированы каким-либо международно-правовым актом, за исключением «Положения» о «предупреждении и разрешении конфликтов, могущих возникнуть на реке Днестр», ставшей пограничным рубежом между СССР и Румынией.
Читать дальше