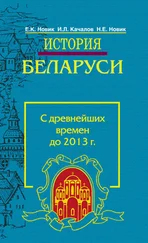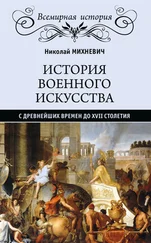«Из всех народов андрофаги имеют самые дикие нравы; нет у них ни суда, ни законов; андрофаги – кочевники. Одежду носит подобную скифской, но язык у них особый. Это единственное племя людоедов в той стране». Судя по данным топонимики (наука о названиях мест), эти три культуры и три народа принадлежали к прабалтам – индоевропейским народам, близким к современным литовцам и латышам, и, возможно, являлись предками жившей на территории Руси, в том числе и брянской ее части, и известной по летописям голяди. Так, на поверку оказываются балтскими по происхождению на первый взгляд так «по-славянски» звучащие названия, как Дорунь (Добрынь), Радутино, Столбянка, Немолодва, Десна, а некоторые имена рек – Болва, Надва – восходят, вероятно, еще к более глубокой (финно-угорской) древности. Происхождение же названия голядь, которое предположительно связывается с уже упомянутыми гелонами Геродота, некоторые исследователи (например, О. С. Стрижак) предлагают искать не в балтских, а в кельтских языках, возводя его к кельтскому племени галатам, жившим в Центральной и Восточной Европе и Малой Азии, или даже к французским галлам, или связывают их с гэлами (каледонцами, или шотландцами). Однако столь дальние сопоставления вряд ли будут являться научно обоснованными, ибо предметов кельтского происхождения на Брянщине не обнаружено. Впрочем, название «невры» с кельтского может переводиться как «мужественные», «отважные»; «будины» – «победоносные», а само размещение этих народов в Подесенье является хоть и возможным, но отнюдь не единственно возможным.
Военные действия, зафиксированные письменными источниками (Геродотом в первую очередь), относятся только к началу раннего железного века, точнее – к 512 году до нашей эры. Будины (точнее, их южная часть – будино-гелоны) подверглись нападению персов, так как выставили воинов в поддержку скифов, а их соседи невры и андрофаги – карательному набегу степных кочевников за отказ помочь им в критическую минуту в борьбе против персов Дария I. Будины и гелоны входили в состав третьего скифского войска (царя Таксакиса), целью которого было не допустить вторжения персов на север.
«Когда скифы перешли реку Танаис, в погоню за ними последовали немедленно и персы, пока наконец не прошли землю савроматов и не достигли владений будинов». «…Вторгшись в землю будинов, персы напали на деревянное укрепление, которое было покинуто будинами, и сожгли его». После отступления персов скифы, решив наказать отказавшие им в помощи лесные племена, «двинулись во владения андрофагов; разоривши и этот народ, они отступили к Невриде. По разорении этой страны скифы бежали к агафирсам». Есть, впрочем, данные, что вторжение скифов и невров носило превентивный характер и относится к 515 году до н. э. Под воздействием возросшей опасности с юга (персы, затем скифы) андрофаги «не взялись за оружие… а, объятые страхом, бежали все дальше к северу в пустыню». Таким образом, кроме прямых вторжений, к видам военных действий VI века до н. э., точнее их последствиям, относятся массовые переселения народов – миграции. Так, «за одно поколение до похода Дария им (неврам) пришлось покинуть всю свою страну из-за змей. Ибо не только их собственная земля произвела множество змей, но еще больше их напало из пустыни внутри страны. Потому-то невры были вынуждены покинуть свою землю и поселиться среди будинов». Примерно в это же время, но уже с юга, а не с запада в землю будинов вторглись гелоны, построившие в их земле свой город. Характер переселения (мирный, военный) письменные источники не освещают, однако, по данным археологии, отношения пришельцев с местным населением (по крайней мере, милоградцев-невров с юхновцами-будинами) далеко не всегда были мирными. Крупнейшие исследователи этих культур О. Н. Мельниковская и Б. А. Рыбаков так доказывают это положение: «Вновь создающиеся на востоке (в соседстве с будинами или уже на будинской земле) милоградские поселки возникают сразу как укрепленные поселения. Количество городищ очень велико, под городище занимался буквально каждый удобный мыс» (Б. А. Рыбаков). Недаром так различались позиции невров и будинов по отношению к персидско-скифскому конфликту.
Что касается различных видов военного дела милоградцев, юхновцев, днепро-двинцев, то как раз о фортификации мы можем судить наиболее полно.
Все три культуры (милоградская, юхновская и днепро-двинская) представлены маленькими укрепленными поселениями диаметром в несколько десятков метров и с населением не больше сотни человек. В этих поселках жили отдельные роды или большие патриархальные семьи. В археологии эти укрепленные поселения называют «городищами», а местные жители величают их «городцами», «городками», «кудеярками» (по имени легендарного разбойника Кудеяра, который хранил якобы на таких городищах свои сокровища), «тарелочками». Для безопасности от различных набегов и нападений врагов они строились на высоком обрывистом мысу либо у реки, либо в окружении лесов и болот, то есть в недоступных для внезапного вторжения местах. Городища обязательно укреплялись с напольной стороны валами и рвами, расположенными иногда (особенно у днепро-двинцев) в два-три ряда. Часто строители усиливали естественную крутизну склонов эскарпами, а по краю площадки ставили частокол или бревенчатые стены. У милоградцев же городища часто имеют правильную геометрическую форму, расположены на ровной местности и имеют несколько укрепленных площадок, причем внешние часто не имели следов жилого использования и могли использоваться, например, в качестве загонов для скота.
Читать дальше