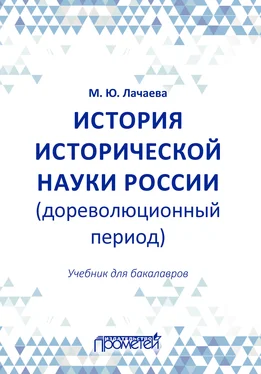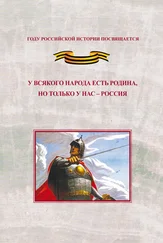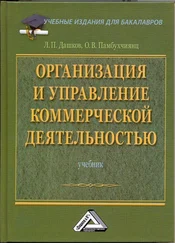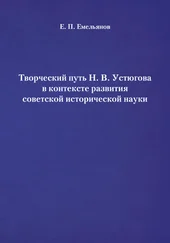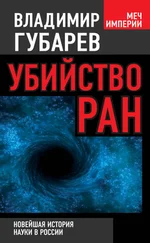При описании личности и высокой авторской оценке подвига тема мученического венца за веру становится ведущей.
Появляется иной тип жития – мученического жития, жития-мартирия – Житие Михаила Черниговского [146] В 1246 г. в Орде по приказанию Батыя был убит черниговский князь Михаил Всеволодович вместе с сопровождавшим его в Орду боярином Федором. Убийство носило политический характер, но в Житии гибель Михаила представлена как добровольное страдание за православную веру.
и Житие Михаила Ярославина Тверского [147] Михаил Ярославич Тверской (1271/1272—1318) убит в Орде.
. Повествовательная составляющая дала основание отнести их к жанру житийных Повестей об убиенных в Орде князьях. Ордынцы рассматриваются в них как активно действующие силы зла, орудие «казни», ниспосланное православным за их грехи.
В течение в XIII–XV вв. «ордынская» тема является центральной. В житие епископа Игнатия рассказано о нашествии Ахмыла, случившегося при ростовском епископе Прохоре (ум. 1327). В. О. Ключевский отметил: «В описании этого нашествия житие делает замечание, звучащее воспоминанием очевидца, который вместе со всей русской землей был напуган зрелищем варварского полчища, прошедшего, впрочем, на этот раз без вреда для Ростова: «страшно есть, братие, видети рать его (Ахмыла) и все войско вооружено» [148] Ключевский В. О. Древнерусские жития святых как исторический источник. – М., 1989. – С. 39.
. Жития монгольского периода передают устойчивость настроения страха.
Однако с конца XIV в. в рамках ордынской темы происходят изменения, вызванные переменами в настроении и сознании русских. Представления русских людей о нашествии и иге и соответственно восприятие «чужого» этноса переживают глубокую эволюцию. Если (а) первоначально летописцев интересовала идентификация « неведомого » ранее народа, выполнившего по отношению к Руси функцию «бича Божьего » и напомнившего русским о необходимости их духовного исправления, то (б) позднее более значимым для них становится вопрос о причинах произошедшего и судьбе Руси. Размышления об этом приводят к выводу о нелегитимности безбожной власти.
(а) Так, в рассказах о битве на Калке, составленных в 1220-х – 1230-х гг., летописцы давали негативную оценку действиям русских князей, на том основании, что считали их участие в сражении на стороне половцев, от которых страдала Русь, неблаговидным. В глазах летописцев, татары выполняли тогда по отношению к половцам функцию «бича Божьего» [149] В советской историографии не учитывалось религиозное объяснение происходившего в истории современниками монгольского нашествия. В качестве причины осуждения ими русских князей называлась исключительно разобщенность последних.
. «И текла кровь христианская, как река сильная, грех ради наших». Спасение виделось в смиренном принятии «Божьей кары».
(б) На рубеже XIII–XIV вв. рассказы о первом столкновении с татарами в битве на Калке подверглись редактированию. В измененном виде они дошли до нас в составе Новгородской первой старшего извода, Лаврентьевской и Ипатьевской летописях.
Восприятие исторической реальности во второй половине XIII в., в целом, было исключительно пессимистическим. Образцом для подражания стал «новый Иов терпением и верой». О необходимости активного противостояния «безбожным» татарам для спасения души на Страшном суде говорилось только в Ипатьевской летописи.
В первой половине 1270-х гг., сорок лет спустя после батыева нашествия епископ Серапион [150] Русский проповедник – игумен, архимандрит Серапион Киево-Печерский в последний год своей жизни был поставлен митрополитом Кириллом епископом Владимирским, Суздальским и Нижегородским.
(умер в 1275 г.) передал в своих «Поучениях» смысл постигших Русь бедствий. Развивая тему покаяния и обличая усобицы и поступки русских князей, он не упускал случая осудить их неблаговидные цели – «пограбить» чужое владение. Творчество Серапиона сохраняло в послемонгольский период традиции торжественного и учительского красноречия Киевской Руси XI–XII вв. Наставления пользовавшегося уважением Серапиона («зело учителей и книжен») оказали влияние на взгляды автора Слова о житии и о преставлении Дмитрия Ивановича, царя русского, а также создателей других памятников.
Длившееся более двух веков татарское иго стало тяжелейшим испытанием для русского народа. На его долю выпало спасение европейской культуры от разгрома и истощения [151] Гудзий И. К. История древней русской литературы. – М., 1950. – С. 176.
. «Повесть о разорении Рязани Батыем»,ставшая реквиемом по Старой Рязани, дает представление о цене ее спасения. Повесть имеет сложную литературную историю и входит в цикл других рязанских повестей о Николе Заразском.
Читать дальше