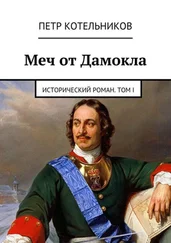Кареты неспешно прокатили несколько верст и остановились у высокого, раскидистого дуба, возле которого в тени, никому не мешая, стояли два еще более вместительных, чем почтовые кареты, молчаливых дормеза. Трое мужчин быстро и ловко перенесли в них вещи из приехавших экипажей, пассажиры и слуги тоже пересели.
–– Иван, теперь гони что есть духу, – озорно крикнул царевич, высунувшись навстречу освежающему ветру.
Парень высоко поднялся со своего места, присвистнул, по-разбойничьи гикнул, широко размахнулся кнутом: «Э-э-х!» – и ошпарил коренника тяжелым ударом, давая знать, что надобно нестись, не жалеючи себя. Лошади поняли и рванули во всю мощь.
Царская почта продолжала не спеша трусить по наезженной дороге, а таинственные дормезы вскоре исчезли из виду. Они неслись с бешеной скоростью, останавливаясь только темной ночью в укромных местах, да и то всего лишь на несколько часов, чтобы пассажиры и лошади могли хоть немного отдохнуть, поесть и поспать. Проносились мимо города и городки, деревни, поля, рощи, озера и реки, а дормезы продолжали уходить все дальше и дальше, ускользая от возможной смертельной погони.
В карете, действительно, находился Алексей Петрович – опальный наследник русского престолу, сын Петра и первой его жены Евдокии, которую царь навечно заточил в далекий, глухой монастырь. Царевичу шел уже двадцать седьмой год. Ростом он был чуть ниже батюшки, но шире его в кости, стройнее, изящнее. Ему бы поболее дородности, и царевич выглядел бы дюжим русским богатырем. Но он пока был худощав, дородность и кряжистость в нем только намечались.
Алексей шумно, облегченно вздохнул, когда карета пересекла заветный рубеж, и в благостном изнеможении откинулся на спинку дорожного дивана. Кажется все: изнурительные, мучительные колебания и сомнения, наконец, оставили его – он едет!
Кто хоть раз стоял перед тягостным, душераздирающим выбором: ехать или не ехать, отступать или наступать, защищаться или нападать, прощать или проклинать; кто не спал бессонными ночами, когда стрелка выбора мечется у нулевой отметки, не решаясь отклониться ни в одну, ни в другую сторону, когда шансы каждого из двух решений почти одинаковы, когда на один резон возникают тут же два противоположных, столь же убедительных, как и первый; когда голова пухнет и горит от невозможности принять хоть какой-то решительный шаг, тем более, когда дело не терпит промедления – на кону вся последующая жизнь – тот поймет все блаженство облегчения, когда такой шаг все же сделан, когда, наконец, сказано: поехали! – и нет пути назад.
Вместе с царевичем ехали его невеста Ефросинья и четверо слуг: Иван Федоров, который приходился родным братом спутнице царевича, Яков Носов, да два Петра – Судаков и Меер. Все люди надежные, проверенные, мастера на все руки, с такими не пропадешь. Яков служил еще при Шарлотте – умершей жене царевича – и сносно шпрехал по-немецки.
После временного облегчения, связанного с переездом границы, пришла непомерная усталость и опустошение. Царевич упал на сиденье в тупом изнеможении. Не было никаких сил ни двигаться, ни думать, ни радоваться, хотя радость сидела в нем и терпеливо ждала своей очереди. Так продолжалось до самого Данцига.
В Данциге Алексея Петровича должны были ждать посланные от царя-батюшки офицеры, и еще можно было все повернуть в сторону родшего мя (так Алексей за глаза называл отца), но тогда куда подеть милую его сердцу Ефросиньюшку? Ехать с ней к батюшке – означало, и ее обречь царскому гневу и опасностям. Вот оно, округлое, нежное плечо его спутницы, что доверчиво прижимается к нему, находя в нем надежную опору.
Ефросинья в последние дни, когда он объявил ей о своем решении, дрожмя дрожала и все умоляла: «Алексей Петрович,– зачем нам ехать? Пусть будет все по -прежнему. Я дворовая девка, с меня спросу мало, я к тяготам всяким привычная. А вам зачем такую обузу терпеть? Я и дальше согласна служить, как и прежде, только бы вам не было никакой обиды из-за меня. Вам надобно жениться согласно вашему званию, а мне что? – избенку бы поставить – да и то ладно».
–
Что ты, что ты, Фрося?– тревожился царевич.– Мне уж без тебя весь белый свет не мил. Я уж и не представляю, как буду жить, чтоб тебя не было со мной. Ты так больше не говори, не пугай меня.
Как ему хотелось оправдать ее доверие, надежно защитить свою робкую и в то же время смелую подругу жизни! Как она не желала ехать, как убеждала его остаться! Но многого Фрося не знала, не понимала, и потому он был ласков, но непреклонен – надобно уезжать.
Читать дальше