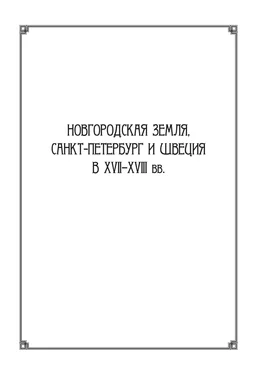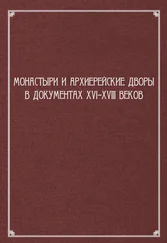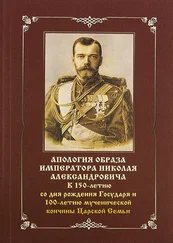Такое суждение на долгое время стало «дамокловым мечом», нависавшим над теми историками, которые хотели объективно исследовать «норманскую проблему».
После осуждения «культа личности Сталина» на ХХ съезде КПСС в 1956 г. тотальный физический и идеологический террор прекратился. Многие невинно осужденные люди были реабилитированы. Наступила так называемая «оттепель» (И. Г. Эренбург) в общественной и интеллектуальной жизни второй половины 1950-х – начала 1960-х годов. Она выражалась, в частности, в большей свободе высказывания, в отказе от наукообразных шаблонов сталинской поры. Но партийное руководство по-прежнему требовало критики «буржуазной идеологии» в гуманитарных науках. Эти требования осуществлялись административным руководством академических учреждений и вузов. Впрочем, под видом «критики» ученые чаще публиковали свои серьезные научные исследования, хотя критике подвергались подчас и профессионально слабые идеологизированные разыскания западных коллег.
В такой общественно-политической ситуации и с такой предысторией изучения «норманской проблемы» была опубликована в ведущем академическом журнале «История СССР» большая статья И. П. Шаскольского «Норманская теория в современной буржуазной историографии» 49 49 Шаскольский И . П . Норманская теория в современной буржуазной историографии // История СССР (далее – И СССР). 1960. № .1. С. 223–237.
. Эта тема не была случайной в его научных исследованиях.
И. П. Шаскольский – коренной петербуржец. Он вырос в городе, который, как и весь Северо-Запад России, был исторически органично связан со скандинавскими странами и Финляндией. Как сказал Шаскольский в одной из наших бесед, он уже в юности решил изучать историю русско-скандинавских отношений в IX–XVIII вв. К их исследованию он был хорошо подготовлен. Обучение в немецкой школе Петришуле создало основу для самостоятельного освоения скандинавских языков. Занятия в 1936–1941 гг. на историческом факультете Ленинградского университета по двум отделениям – и сторическому и археологическому, стали основой профессиональной подготовки по средневековой истории отечественной и зарубежной.
На факультете преподавали в те годы выдающиеся исследователи истории Древнего мира, средних веков истории России и западноевропейских стран, известные источниковеды. Такое преподавание обучало комплексному использованию разных по происхождению исторических источников при обязательном их источниковедческом анализе. Научным руководителем Шаскольского был замечательный специалист по истории летописания М. Д. Приселков. На довоенных лекциях В. В. Мавродина Игорь Павлович, в частности, узнал о значительных исследовательских возможностях его конструктивного метода изучения «норманской проблемы». В Ленинграде тогда сохранялись традиции петербургских исследователей Г. В. Форстена, Ф. А. Брауна, В. А. Брима. К ученице Брауна – Е. А. Рыдзевской Шаскольский обращался в студенческие годы за советами. Их принципам научного исследования он следовал на протяжении всей своей научной деятельности.
«Норманская проблема» стала одной из научных тем, которая постоянно интересовала И. П. Шаскольского. Он изучал ее со второй половины 1950-х годов. Впрочем, вплоть до второй половины 1980-х, времени реформ М. С. Горбачева, обязательным требованием советской партийно-административной системы оставалось разоблачение «норманизма» как проявления буржуазной и антисоветской идеологии в исторической науке. Эта борьба, кроме научного содержания, должна была свидетельствовать также о патриотизме советского историка.
В соответствии с идеологемами того времени И. П. Шаскольский сохранил мнение, в соответствии с которым назначением «норманской теории» является «стремление доказать “неполноценность” русского народа, его неспособность самостоятельно создать свою государственность», обосновать решающую роль норманнов, принадлежавших к западной, более высокой культуре и цивилизации. Такой обобщенной характеристике «норманистов» Шаскольский противопоставил выводы советских историков, а также историков из Польши и ГДР, которые писали о становлении государства в результате внутреннего процесса развития общества. Он проанализировал суждения западных историков, филологов и археологов, отмечая по необходимости в обобщенной форме их выводы, сходство и различия. Шаскольский последовательно показывал преувеличение численности и значения скандинавов в отличие от сведений исторических, лингвистических и археологических источников. Впрочем, такого рода опровержениями становились пока обобщенные наблюдения советских историков без учета степени их обоснованности, а также приводимые Шаскольским сведения о взаимной критике западных исследователей по частным вопросам истории скандинавов в Восточной Европе.
Читать дальше