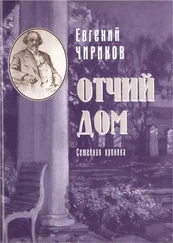26. VIII.[19]60. ГАПК. Ф. р-973. Оп. 1. Д. 708. Л. 1–15 об.
Антонина Ивановна Тетюева [111]
В жизни иногда бывает так: начинаешь вспоминать о ком-либо из близких людей, и вдруг окажется, что воспоминания получаются разбросанными и случайными, а хотелось бы восстановить в памяти живой и полный образ этого человека; и тогда в душе возникает досада на себя: почему я в своё время не позаботился о том, чтобы собрать об этом человеке более полные сведения и обида за него: почему я был так невнимателен к нему. В таком именно положении оказался автор этой заметки, задавшись целью восстановить в памяти образ своей тётушки – Антонины Ивановны Тетюевой.
У нашей матушки были два брата и одна сестра, моложе её на десять лет. По обычаю тех лет, младшая сестра была крестницей старшей сестры и всегда любезно называла её крёстнинькой. Вот эта крестница нашей матушки и была нашей тётушкой Антониной Ивановной. Из всей нашей родни по линии отцовской и материнской никто другой не стоял так близко к нашей семье, как тётушка А. И.: она не один раз бывала в нашей Тече, довольно часто писала письма нашим родителям; через неё наша матушка получала сведения о жизни своих братьев.
Различные судьбы были у сестёр. Наша матушка после выхода замуж навсегда покинула родное Прикамье и родную Покчу около Чердыни. Всю свою жизнь она прожила в Зауралье, на границе с Сибирью, в совершенно других природных условиях, чем те, которые были у ней в детстве. Окружённая большой семьёй, она всю свою жизнь без остатка отдала семье. У автора этой заметки до сих пор сохранились в памяти картина обеденного застольяв нашей семье, которую можно назвать символизирующей жизнь нашей матушки. Семья за столом, в кухне, недалеко от кухонной печи. В головной стороне стола сидит отец, по трём сторонам – шесть человек детей и в уголке, ближнем к печке, на «притыке» сидит, вернее сказать – время от времени присаживается наша матушка. Здесь её боевое место. Чашка с супом или тарелка с кашей моментально пустеют, и наша матушка то и дело вновь и вновь наполнует их, лишь на минуту присаживаясь к столу для принятия пищи; в основном же она обедала после того, как все выходи[ли] из-за стола. А длинные вечера? Которые она проводила за чинкой белья! И так вся жизнь! Всё для семьи!
Совсем иначе сложилась жизнь нашей тётушки Антонины Ивановны и самым главным отличием в её судьбе было то, что она на всю жизнь осталась одинокой и прожила всю свою жизнь в Перми, работая в больницах или частным образом, приватно, как тогда говорили, «сестрой милосердия». Почему именно так, а не иначе сложилась жизнь нашей тётушки; где она училась профессии «сестры милосердия» и вообще где и как она получила образование – это осталось автору сего не известным, и вот поэтому то он и сожалеет теперь о том, почему он в своё время не выяснил эти вопросы. Чего проще было тогда взять и расспросить об этой тётушку, но молодость эгоистична: она живёт настоящим моментом, не вдаваясь в то, как получилось это настоящее.
Моё первое знакомство с тётушкой произошло ещё в детские годы в один из приездов её в нашу Течу. У тётушки был туберкулёз лёгких, пока что в скрытой форме и она периодически, через года два-три приезжала на кумысный курорт в Усть-Караболку, находившуюся верстах в сорока от Течи; а после курорта она приезжала к нам погостить на месяц. Первое впечатление моё от встречи с тётушкой было такое, что мне показался приезд её к нам появлением человека из какой-то другой страны: всё в ней было не то, к чему мы привыкли в деревне – одежда, причёска, манера держаться, даже отдельные предметы обихода – чемоданчик, сетка, ремешки, рюкзак – всё казалось не «нашим», не деревенским. Позднее я понял, что тогда я первый раз в жизни подметил различие между городом и деревней, и город, а также жизнь в нём мне впервые представились различными, противостоящими деревне. В дальнейшем я много раз слышал о тётушке от брата Алексея, который учился в Пермской семинарии и бывал у неё. И вот, наконец, и я перекочевал в Пермь для продолжения образования в семинарии и, таким образом, получил возможность встречаться с тётушкой. В это время, в возрасте 15–16 лет, я уже не был таким «дикарём», деревенским мальчишкой, как в детстве, и, как говорится, [привык] и к городу и городской жизни, и тётушка уже не казалась мне какой-то отгороженной от меня «феей». Она в это время уже не была на постоянной работе, а получала какую-то незначительную пенсию по болезни, вроде четырёх рублей в месяц, и только время от времени частым образом прирабатывала на жизнь. Жила она далеко от семинарии и я реденько отправлялся в «путешествие» к ней в свободные часы, т. е. между двумя и пятью часами дня. Сначала я шёл на Слудскую площадь, подходил к самому высокому спуску с неё в южную часть города, спускался по деревянной лестнице со многими ступеньками и дальше шёл до конца улицы, пересекая несколько по перечню улиц, и, наконец, поднимался на второй этаж деревянного дома по лестнице со двора. Здесь и обитала моя тётушка. Жила она в этом доме, очевидно, не на правах квартирантки, а скорее – на положении домовницы и занимала не комнату, а каморку, в которой на уплотнении стояли её кровать, прикрытая одеяльцем собственного её вязания, столик, и два стула, угловой столик, со швейной машиной на нём, на стенах одеяние, завешанное простынёй и на оконце какие-то цветы. Всё у неё было в порядке и в абсолютной чистоте. Тётушка встречала меня всегда приветливыми словами: «А! Васенька пришёл»… и начинала хлопотать об угощении. Потом начинались беседы. О чем мы с ней тогда беседовали, я теперь не помню. Вероятно, о том, что пишут из Течи. Других тем для беседы не могло быть: я не был знаком кроме неё ни с дядями, ни с тётями по маминой линии; для меня был чуждым врачебный мир, с которым она была связана по своей профессии, а семинария не могла для неё иметь никакого интереса. Теперь я знаю, что ещё могла быть тема для нашего разговора, и не могу себе простить, почему я тогда не спросил у ней о её жизни: как она училась, где, как она сделалась «сестрой милосердия», почему она осталась одинокой и т. д. Но молодость эгоистична: она живёт только настоящим. Я видел у тётушки иногда на столе книжку для чтения – почему я не поинтересовался, что она читает? [112]Только однажды, не помню, по какому случаю зашла речь о ректоре семинарии Добронравове, и тётушка рассказала мне, как она ухаживала на дому за больной дочерью его Лией. У ректора было два сына и три дочери. Две дочери носили библейские имена – Рахиль и Лия. Последняя была его любимицей и умерла от скарлатины. «Как он убивался и плакал» – рассказывала о ректоре тётушка по поводу утраты этой дочери. Моё воображение, несмотря на все усилия, не в состоянии было представить нашего ректора – грозного великана – плачущим. Раненный могучий лев – так образно я мог представить ректора убитым его горем.
Читать дальше