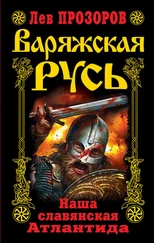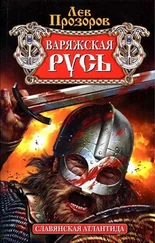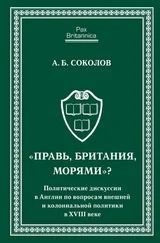Второе из обстоятельств, определяющих расположение исследователей к Миллеру, это их убежденность лишь в патриотической подоплеке выступления русского Ломоносова против идей норманизма, только в силу политических причин (реакция на бироновщину, антишведские настроения) добившегося запрета диссертации немца, отстаивавшего истину. При этом в науке не принято акцентировать внимание на том, что нелестные отзывы на нее дали и нерусские ученые — профессор истории И. Э. Фишер (Шлецер высоко ставил его «классическую критику» и знание им «классических древностей» [253]) и Ф. Г. Штрубе де Пирмонт, которых сложно записать в патриоты, и которые, отмечает норманист В. А. Мошин, «в своих рецензиях возражали на каждую страницу доклада» Миллера. Более того, Штрубе, по оценке того же Мошина, «наиболее жестоко критиковавший доклад Миллера, в сущности расходился с ним лишь в частностях, признавая норманское происхождение руси» [254]. Уже один этот факт многое говорит о научной значимости рецензируемого ими труда, что подтверждают мнения крупнейших норманистов, немцев по происхождению. Так, А. Л. Шлецер увидел во многих положениях диссертации Миллера «глупости» и «глупые выдумки» [255], А. А. Куник же в целом охарактеризовал ее «препустою» [256]. Тем самым они, не желая того, признали принципиальную правоту Ломоносова в ее оценке (кстати, прилагавшего к ней подобные эпитеты»: «дурная» и «вздорная» [257]), и отмели домыслы об отсутствии в его критике каких-либо серьезных оснований, кроме, как только патриотических. Нельзя, наконец, забывать, что инициатором обсуждения речи Миллера, которую он охарактеризовал «галиматьей», был немец И. Д. Шумахер [258], а не русский Ломоносов.
И если ситуацию в науке середины XVIII в. воспринимать только как борьбу патриотов и непатриотов, т. е. антинорманистов и норманистов, то нельзя тогда понять, почему к этому времени были опубликованы все работы Г. З. Байера, в которых доказывалось норманство варягов, но никто из русских ученых не препятствовал их выходу в свет уже после смерти автора, когда эпоха бироновщины канула в Лету. Более того, русский перевод статьи Байера «О варягах» был включен бесспорным патриотом В. Н. Татищевым в первый том своей «Истории», а в 1767 г. К. А. Кондратович выпустил его отдельным изданием [259]. С норманистских позиций в XVIII в. выступали иностранные ученые, жившие в России, и им никоим образом не возбранялось высказывать это мнение, в том числе и публично. Так, 6 сентября 1756 г. Ф. Г. Штрубе де Пирмонт на торжественном собрании Академии произнес речь «Слово о начале и переменах российских законов», где он, отметив, что от происхождения российской монархии, от «происхождения законов ее много зависит», доказывал норманское происхождение норм Русской Правды, утверждал, что россы «были народ германской, живущий вне пределов Германии», древние обычаи которых «сходны с обычаями всех народов германских» и законы которых «наиболее согласуются» с законами шведов. И это далеко «непатриотичная» речь, если говорить языком норманистов, прозвучала на торжествах, посвященных тезоименитству императрицы, и нисколько не была вменена в вину немцу, к тому же некогда служившему секретарем у ненавистного русскими Бирона. Тремя годами ранее ту же мысль он проводил в своей диссертации, подчеркивая, что руссы — это часть «готфских (т. е. германских. — В. Ф. ) северных народов», принесшие законы восточным славянам, которые те не имели [260].
За границей также не сомневаются, что Ломоносову норманская теория казалась «обидной для русского самосознания». К этому мнению, взращенному именно российской наукой, там еще добавляют, что он «опасался, что шведский король, ссылаясь на шведское происхождение первой русской династии, снова может претендовать на русский престол». Такой аргумент, надо заметить, не брали в расчет даже монархи Швеции XVII в., когда их придворные историографы создавали норманскую теорию, направленную против России (к тому же ни они, ни их преемники XVIII в. не имели никакого отношения к конунгам древности, в силу чего даже теоретически не могли ни на что претендовать). Весьма курьезным выглядит и другой вывод современного норвежского историка: в начале XIX в. варяжский вопрос в большей степени потерял характер патриотического спора, возможно, и по той причине, что взамен «германских» государств Швеции и Пруссии главным противником России стала наполеоновская Франция [261]. Подобные мысли, как и слова Шлецера, что во времена Ломоносова «было озлобление против Швеции», выглядят довольно сомнительными в свете хотя бы факта избрания в апреле 1760 г. русского ученого почетным членом Шведской академии наук. И Ломоносов с искренними словами благодарности к «славнейшей академии» «за столь великую и особенную милость» принял этот почетный титул [262], которым очень гордился, и который значится на титульном листе его «Древней Российской истории». Н. В. Савельев-Ростиславич справедливо указывает, что шведское происхождение Рюрика отвергалось не из-за «ссоры» со Швецией, а из-за «явной несообразности» с указаниями ПВЛ [263].
Читать дальше