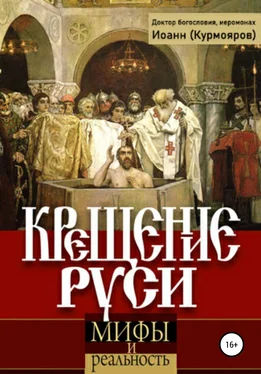Например, в своей книге «История Русской Церкви» видный советский историк, академик Н. М. Никольский писал: «Христианство возникло на почве ожесточенной социальной борьбы первого века; оно было сначала эсхатологической религией рабов и пролетаризованных элементов мелкой буржуазии и только впоследствии было переработано в богословскую отвлеченную религию искупления с могучей церковной организацией, в лице которой тогдашнее государство получило новое могущественное орудие для своей власти» [95].
Правда, здесь нужно отдать должное коллегам Н. М. Никольского, которые, заметив, что автора вышеприведенной цитаты несколько «занесло» в оценках и выводах, поставили под цитатой сноску о том, что: «Утверждение о наличии в первом веке н. э. пролетаризованных элементов мелкой буржуазии – рецидив былого увлечения Н. М. Никольского так называемой «теорией циклов» [96].
Другое дело, что в своей критике христианства «заносило» не только Н. М. Никольского, но и подавляющее большинство тех, кто в то время писал или говорил о христианстве с позиции господствующей антирелигиозной идеологии. По сути говоря, в головы людей вдалбливались элементарные по своей формулировке и содержанию антихристианские лозунги, прямо осуждающие все связанное с историей христианской Церкви. Причем сама Церковь преподносилась людям исключительно как аппарат насилия и сдерживания всего прогрессивного. Был даже издан своего рода «атеистический катехизис» советской эпохи под названием «Настольная книга атеиста», в котором писалось, в частности, следующее:
«Она (т. е. Церковь) захватила в свои руки монопольное право на обучение. Вследствие этого все образование приобрело богословский характер. Подавляющее большинство средневековых ученых являлись представителями духовенства. Любая научная проблема преломлялась через официальную богословскую доктрину… Ценность теоретических исследований всецело определялась их соответствием догматическому учению церкви… Для средневековья характерно засилье теологии. Теологические системы стали препятствием на пути прогресса, науки и культуры. Богословское решение естественнонаучных проблем, к которым религия не имела никакого отношения, ставило исследователей в невыносимые условия. Теологи объявили геоцентрическую систему Птоломея равнозначной догмату веры, самым решительным образом отстаивали представление о неподвижности Земли… и т. п.» [97].
Главная задача авторов этой (и других подобных) цитат формулируется довольно просто – привить отвращение ко всему, что связано с Церковью и христианством, а там, где привито устойчивое чувство отвращения, никто уже не будет проверять заведомо ложную информацию о том, что система Птоломея якобы была чуть ли не «догматизирована» в средние века или искать правду о том, что возникновению современной науки как таковой мы обязаны не кому-нибудь, а именно христианской цивилизации [98].
Точно также отношение христианской Церкви к личной и общественной жизни человека описывается с сугубо негативным оттенком:
«…церковь никогда не забывала об усилении идеологического воздействия на умы людей. Главными направлениями церковной спекуляции становятся догматика и аскетика… В области общественной жизни они (т. е. теологи-богословы) отстаивали идею неизменности существующего порядка, благословляя систему неравенства, эксплуатации и угнетения» [99].
При этом, естественно, не приводится ни одного церковного источника вероучительного характера, в котором речь шла бы о благословении – неравенства, эксплуатации и угнетения.
Однако, если в советский период подобные психологические ходы хоть как-то еще можно было объяснить, то некоторые современные трактовки религиозного мировоззрения, а также вольные трактовки библейских текстов объяснить достаточно трудно. Так, например, один из критиков христианства В. Б. Авдеев пишет следующее:
«Античные критики христианства, такие, как Цельс, Цецилий, Порфирий, Юлиан, будучи современниками утверждения христианства, а также и более поздние исследователи заостряют наше внимание на том, что Христос был крайне необразованным человеком, не имевшим никакого представления о доминировавшей в то время греко-римской культуре. Палестина была самой непросвещенной и отсталой провинцией Империи. Неужели Единственный Бог не мог дать своему возлюбленному сыну соответствующее образование и наделить телом, достойным его величественной миссии?» [100]
Читать дальше