Патриарх Иеремия провёл в Москве ещё несколько месяцев, на протяжении которых под бдительным контролем царя Фёдора Ивановича и Бориса Годунова создавалась «Уложенная грамота об учреждении в России Патриаршего престола» 296. Эта грамота интересна ещё и тем, что впервые в официальном государственном документе содержится почти дословное воспроизведение идеи «Третьего Рима», которая должна была подтвердить законность и логичность утверждения в России высшего церковного титула: «Понеже убо ветхий Римъ падеся Аполинариевою ересью; вторый же Римъ, иже есть Костянтинополь Агарянскими внуцеми… обладаем; твое же, о благочестивый Царь, великое Российское царствие, третей Римъ, благочестиемъ всехъ превзыде… и ты единъ подъ небесемъ Христианский Царь…» 297. Следовательно, впервые русские церковно-политические власти добились от вселенского патриарха признания особой миссии России в мире. А ведь до того времени греки, и прежде всего, представители восточных Церквей очень долго отказывались соглашаться с тем мнением, что Россия стала носительницей особой христианской миссии. Показателен в этом отношении пример преподобного Максима Грека, одного из самых авторитетных греческих мыслителей, который не признавал ни русских «новых чюдотворцев», ни новых представлений русских православных людей о своем месте в мировом пространстве 298.
Только в мае 1589 г. Иеремия, подписав грамоту и получив от царя щедрые подарки, уехал из Москвы. В мае 1590 г. он созвал в Константинополе собор, который утвердил патриарший сан за предстоятелями Русской Церкви и пятое место русского патриарха в числе иных православных патриархов. Соборную грамоту, подписанную тремя патриархами (отсутствовала подпись Александрийского патриарха, потому что Александрийская кафедра была тогда вакантной) и другими епископами 299, в июне 1591 г. доставили в Москву. Русские власти потребовали, чтобы московский патриарх был поставлен на третье место. В 1593 г. в Константинополе в присутствии московского посла Г. Афанасьева состоялся новый собор восточных иерархов, в котором участвовали патриархи Константинопольский, Александрийский (временно управлявший также Антиохийской кафедрой) и Иерусалимский. Собор согласился с возведением предстоятеля Русской Церкви в патриарший сан, но отказал поставить его на третье место в диптихе Православных Церквей и установил для московского патриарха лишь пятое место. Отказались греки и от признания особого роли России в христианском мире: ни в грамоте 1590 г., ни в Деяниях Константинопольского собора 1593 г. нет никакого упоминания о России как о «Третьем Риме» 300. Впрочем, чтобы подчеркнуть своё уважение к русскому государю, Собор приговорил, что «благочестивейший царь московский и самодержец всея России и северных стран» будет вспоминаться в священных службах восточной Церкви «по имени, как православнейший царь» 301. Как можно видеть, усилиями светских властей, Русская Церковь достигла цели, путь к которой начался ещё в середине XV в. – обрела патриаршество и сравнялась с иными Православными Церквами в своем статусе. Однако попытка русских светских властей ещё более возвысить авторитет Русской Церкви, а также добиться признания от восточных патриархов особой роли России в мировой истории не увенчалась успехом.
Два эпиграфических памятника смутного времени 302
Two Epigraphic Monuments of the Time of Troubles
Annotation.The inscriptions of Moscow Russia are rarely used as a source containing important historical information. In the paper discusses two epigraphic monuments of the 17 thcentury related to the events of the Time of Troubles – gravestones with the epitaphs to Alexey Vasil’ev son Nazimov (Pskovo-Pechersky monastery) and Melentey Filipievich Kapustin (Spaso-Vorotynsky monastery), who died in the battles of 1606–1607. The first epitaph allows you us to set the establish the date of the second battle at Kromy and attribute it to August 31, 1606. The second epitaph is so far the only evidence of the participation of service people of Vorotynsk in the battle of the Voronya River on June 12, 1607.
Key words:Time of Troubles, inscriptions, epitaphs, new sources.
В сферу научных интересов Н. С. Борисова входят духовная культура и политическая история Древней Руси «накануне конца света». С конца XV в. среди массовых предметов личного благочестия на Руси распространяются монументальные эпиграфические памятники нового типа – белокаменные намогильные плиты с эпитафиями. Несмотря на постоянно растущее число публикаций, эти источники нередко рассматриваются как свидетельства «второго», а то и «третьего» плана и всё ещё находятся на периферии научных исследований, что неудивительно при обилии традиционных источников. Как исключение можно назвать попытку А. А. Зимина вывести отсутствующую в традиционных источниках дату битвы на Вырке из эпитафии князю Юрию Юрьевичу Мещерскому, который 
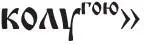 23 февраля 1607 г. 304Р. Г. Скрынников полагал, что «точная дата сражения на Пчельне (3 мая 1607 г. – А. А .) обозначена на надгробии Б. П. Татева» 305, хотя эта дата по григорианскому календарю (13 мая 1607 г.) дана в «Московской хронике» Конрада Буссова 306. В данной статье будет продолжена эта традиция сопоставления уникальных эпиграфических данных со сведениями из письменных источников. Это поможет выявить некоторые важные детали событий Смутного времени.
23 февраля 1607 г. 304Р. Г. Скрынников полагал, что «точная дата сражения на Пчельне (3 мая 1607 г. – А. А .) обозначена на надгробии Б. П. Татева» 305, хотя эта дата по григорианскому календарю (13 мая 1607 г.) дана в «Московской хронике» Конрада Буссова 306. В данной статье будет продолжена эта традиция сопоставления уникальных эпиграфических данных со сведениями из письменных источников. Это поможет выявить некоторые важные детали событий Смутного времени.
Читать дальше
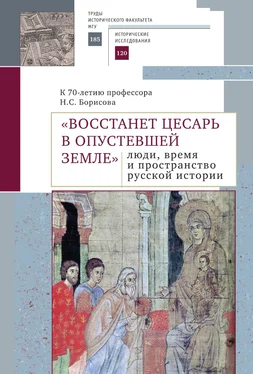

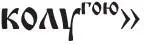 23 февраля 1607 г. 304Р. Г. Скрынников полагал, что «точная дата сражения на Пчельне (3 мая 1607 г. – А. А .) обозначена на надгробии Б. П. Татева» 305, хотя эта дата по григорианскому календарю (13 мая 1607 г.) дана в «Московской хронике» Конрада Буссова 306. В данной статье будет продолжена эта традиция сопоставления уникальных эпиграфических данных со сведениями из письменных источников. Это поможет выявить некоторые важные детали событий Смутного времени.
23 февраля 1607 г. 304Р. Г. Скрынников полагал, что «точная дата сражения на Пчельне (3 мая 1607 г. – А. А .) обозначена на надгробии Б. П. Татева» 305, хотя эта дата по григорианскому календарю (13 мая 1607 г.) дана в «Московской хронике» Конрада Буссова 306. В данной статье будет продолжена эта традиция сопоставления уникальных эпиграфических данных со сведениями из письменных источников. Это поможет выявить некоторые важные детали событий Смутного времени.










