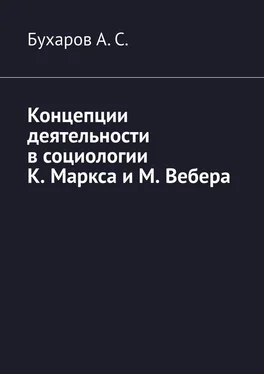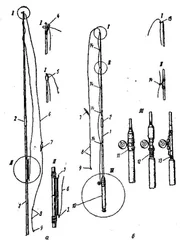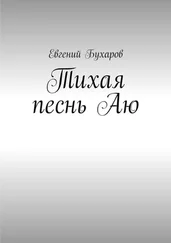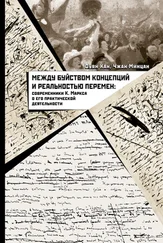Настоящая работа является одной из попыток внести посильный вклад в разработку складывающихся новых очертаний исторических социокультурных исследований. Ее основания заключаются не столько в вере автора в неисчерпанность классической традиции теоретической социологии и приверженности ее канонам, сколько в убеждении, что приращение научного знания возможно лишь на путях позитивного преодоления предложенных ею гипотез и решений. Попытки «освобождения» от «теоретического контроля» предшественников посредством игнорирования поставленных ими вопросов, делают еще более очевидным, что, в силу фундаментальности и нерешенности большей части из них, они по-прежнему составляют сердцевину проблематики теории социокультурной реальности. Широко распространенное в социологической литературе признание лишь исторических заслуг основателей современной социальной науки, как и попытки оспорить сам их исторически сложившийся статус, ритуальное воспроизводство выхолощенных комментаторами классических формул, или их априорное изъятие из обращения в равной мере затрудняют задачу критического освоения теоретического наследия, делая для многих само обращение к классической проблематике проблематичным. Между тем внимательное прочтение классических текстов дает возможность найти недостающие сегодня ключи к обнаружению объективных оснований движения и связей социокультурной реальности, в том числе, и прежде всего, переживаемой стадии ее многосложной эволюции, до сих пор ускользающих от исследователей в многообразном конгломерате описываемых ими конфигураций ее явлений и процессов. Отличие классической интеллектуальной традиции, помимо всего прочего, заключается не только в относительно высокой степени продуктивности специально сформулированной в ней, утвердившейся и получившей признание оригинальной парадигмы научного знания. В неменьшей, если не в большей степени, оно состоит в многомерности и полифункциональности этой парадигмы, проявляющихся лишь по мере ее освоения и выявления ее способности теоретически адекватно выражать все новые, обнаруживаемые и творимые человеком, связи и измерения его мира.
Одной из таких, до сих пор до конца не оцененных, идей является широко использовавшаяся классической социологией конца ХIХ – начала ХХ вв. концепция человеческой деятельности как специфического феномена и особого природно-антропогенного процесса реальности, образующего основания организации ее социокультурного измерения и, собственно, его, это измерение, генерирующего. Анализ феномена человеческой деятельности, в том числе деятельности социокультурной, в отличие, например, от явлений и процессов описываемых в терминах социального действия , традиционно осуществляется в общественной науке преимущественно в русле социально-психологических или обладающих множеством оттенков философских подходов, а также в контексте широкого спектра системных исследований. Как правило, он производится в антропоцентрическом ракурсе и масштабе и заключается в типологии целей направленной жизненной активности человека, соотносимых с его потребностями, свойствами и биосоциальными характеристиками. Наряду с этим исследуются проблематика, организация и технология историко-культурно обусловленных процессов группового целеполагания и целедостижения в их разного рода нормативных, предметных и ситуационных опосредованиях и значениях. В этих рамках явление человеческой деятельности объясняется и характеризуется в высшей степени широко и «пластично», в том числе и с включением проблематики и аргументации относимых к области традиционно понимаемой социологии. Деятельность, ее виды и организация описываются одновременно как способ существования человека, специфически соединяющий его внутренние и внешние детерминации, и как форма и процесс практического, в том числе духовного, освоения и преобразования человеком окружающего его мира, как конкретизация диалектики субъектно-объектных связей, активной стороной которых выступает действующий человек, и как по различным основаниям упорядоченное или спонтанное коллективное поведение, как в различной мере осмысленные и социально регламентируемые взаимно ориентированные субъективные действия людей и как взаимосвязь осуществляемых в различной предметной или ситуационной среде интеракций. В целом сложившаяся в специальных исследованиях феномена социальной деятельности традиция как правило не выходит за рамки рассмотрения ее процессов лишь в качестве в разной мере сложной функции структур личности, консолидированных по различным основаниям групп и обнимающих их обществ. Характерной чертой этого, преобладающего, подхода является то, что бесконечно варьируемое понятие человеческой деятельности, уже лишь этим обнаруживающее свой немалый эвристический потенциал и фундаментальные объективные основания, не обладает статусом особой категории ни в одной из широко использующих его общественных наук. Каждая из них лишь акцентирует тот или иной аспект этого универсального для них, как и для изучаемых ими реалий мира человека в целом, феномена.
Читать дальше