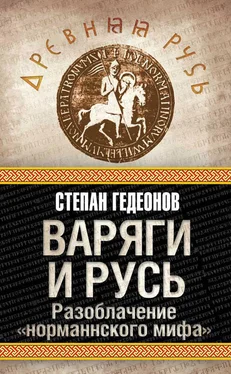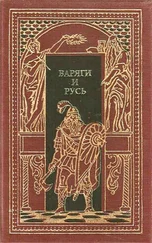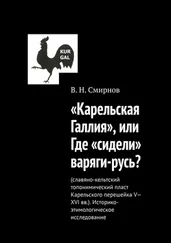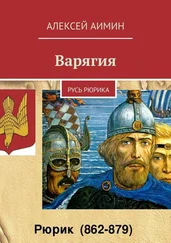Я не отрицаю присутствия родового начала в коренных явлениях древнерусского быта; это начало живет и доныне в исконных учреждениях славянского мира. Но между началом и бытом есть рознь; первое допускает даже противоречащие ему постановления общегражданского свойства; при исключительно родовом или исключительно общинном быте не может быть речи ни о сословиях (а они были: бояре, гридь, огнищане); ни о городах, как отдельных центрах, при особом значении племенного и религиозного старшинства; ни о наследственности в родах княжеских и т. п. Вообще жизнь народов явление сложное, не удобоподводимое под какой-нибудь предвзятый теоретический уровень; всего менее здесь, где дело идет о народе древнем, земледельческом, бывшем, как думают не без основания, еще до Геродота в близких сношениях с греческими поселенцами Черномория. Ни в каком случае, а для нас это главное, сказание летописи о призвании князей не найдет себе пояснения в навязываемых славянам и финнам искусственных побуждениях; по учению норманистов, варяги призваны для оберегания славян и чюди от нападений балтийских пиратов, и они не оберегают их ни от каких нападений; по учению приверженцев родового и общинного устройства, они призваны миротворцами между родами и общинами; и они не мирят никаких родов или общин.
Слова летописца «и почаша сами въ собе володети; и не бе въ нихъ правды, и вста родъ на родъ, быша въ нихъ усобице, и воевати почаша сами на ся» представляют живую, всеславянскому историку знакомую картину того состояния брожения и смут, откуда вышло призвание новой династии князей. По мере размножения прежних княжеских родов, при недостатке образования и письменности терялась нить старшинства и вместе с ней идея законности; пользуясь враждами племен, разжигаемыми донельзя притязаниями одного города перед другим, на родовое и религиозное старшинство, князья находили в них неисчерпаемый предлог к усобицам; сами же, при неясности своих прав и выдающейся отсюда шаткости княжеской власти, постепенно теряли в глазах народа свое значение как владельцев земли. Нет сомнения, что вражды племен и междоусобия князей имели место и при варяжской дани; норманны и германцы, бравшие временные дани с вендских славян, хазары на южной Руси, монголы в XIII–XIV столетиях не вступались во внутреннее управление покоренных ими земель; изгнание варягов было, по всем вероятностям, нечто вроде избиения татарских баскаков в Твери при князе Александре Михайловиче. Между тем, понятно, что первое упоение торжества над иноплеменниками обнаружилось новым разгаром страстей в князьях и в народе, новыми притязаниями на старшинство родов, племен и князей; из этого хаотического состояния новгородская держава могла выйти только передачею княжеских прав в новую княжескую династию.
Эта мысль, этот факт не представляются явлением беспримерным в истории славянских народов. Наша летопись полна известий об изгнании (особенно новгородцами) одного князя для замещения его другим; мы знаем, что у вендских славян, в случае несоблюдения князем основных законов государственного устройства, народ считал себя вправе отрешать его от стола. В 819 году по настоянию оботритских бояр и нарочитых мужей император Людовик осудил оботритского князя Славомира к изгнанию, передав все права его Сидрагу Дражковичу. В 823 году лутичи изгоняют своего старшего князя Милогостя и сажают на великокняжеский стол меньшего, Сидрага Любовича. Еще в 762 году уже ославянившиеся болгары, истребив до последнего отпрыска свой древнекняжеский род Кубратичей, избирают себе в князья (впрочем, ими также вскоре убитого) Тальца. Об изгнании новгородцами, полочанами и т. д. прежних князей как предшествовавшем призванию варяжских, я надеюсь представить положительные, по возможности, доказательства в следующей главе.
Теперь, чего искали словене в своих новых князьях, куда должны были обратиться для избрания новой династии? Требования призвания определяются его причинами. Притязания прежних княжеских родов прекращались только передачей прав их в иной, высший по своему значению в Славянщине род славянских князей; потребности наряда могло удовлетворить только призвание князя, который бы владел Словенской землей и судил по праву , разумеется, словенскому . «Поищемъ собе князя, иже бы володелъ нами и судилъ по праву». Таковым не мог быть никто из южных князей; Новгород был старшим городом, его князья старшими князьями в Руси; никто из князей неславянского происхождения, ибо старшинство или благородство иноземного князя не имело смысла для словенских племен; судить же по словенскому праву мог очевидно только славянский князь, вскормленный на основных законах славянской гражданственности. «Советъ даю вамъ, — говорит новгородский старейшина, — да послете в Руськую землю мудрые мужи, и призовете князя отъ тамо сущихъ родовъ». Если бы не история и народное предание, историческая логика указала бы на поморских князей.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу