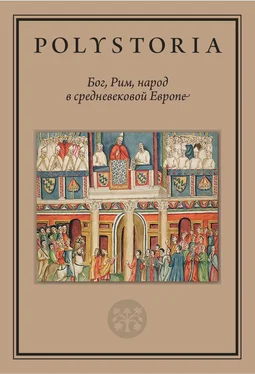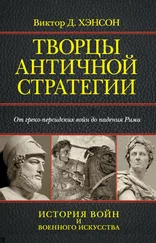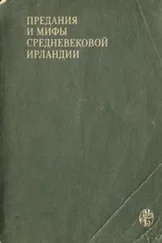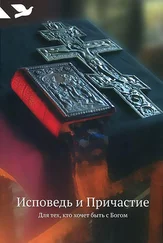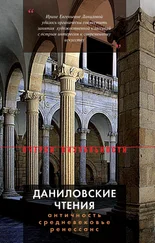Прославление и почитание святых князей-мучеников Бориса и Глеба – одно из самых примечательных явлений в истории русской церкви XI столетия, а во многом – и всего русского Средневековья. Тем более трудно переоценить роль культа святых братьев в истории собственно династической: именно Рюриковичи становятся инициаторами канонизации [119] Термин «канонизация» применительно к русской церковной жизни домонгольского времени мы используем, разумеется, лишь с определенной долей условности.
своих ближайших родичей, и именно они сразу же закрепляют этот культ в собственном имянаречении, из поколения в поколение воспроизводя как крестильные имена братьев ( Роман и Давид ), так и те, что некогда были даны им в качестве княжеских ( Борис и Глеб ).
Центральным эпизодом в агиографическом и литургическом прославлении свв. Бориса и Глеба естественным образом оказывается их мученическая кончина – без рассказа о ней не может обойтись ни один связанный с ними текст, будь то проложное житие, паремийное чтение или летописное сказание. Именно нежелание обоих мучеников вступать в братоубийственную войну оказывается едва ли не главной добродетелью убитых князей. В то же время сюжет о гибели Бориса и Глеба (в особенности Бориса) не лишен, как известно, некоторого налета детективности. Кто из старших братьев – Святополк Окаянный, которого обвиняют древнерусские источники, или Ярослав Мудрый, на которого указывает источник скандинавский [120] Подробнее см. ниже.
, – был истинным заказчиком убийства? Почему убийце (кто бы он ни был) из всех многочисленных наследников Владимира оказалось необходимым в первую очередь избавиться именно от них?
На этом фоне не может не вызвать удивления тот факт, что, согласно «Повести временных лет», убитых по приказу Святополка братьев было отнюдь не двое, а трое: вслед за Борисом и Глебом суждено было пасть и еще одному сыну крестителя Руси – Святославу Владимировичу, также не предпринимавшему попыток напасть на своих родичей:
Стополкъ же съ ѡканьныи и злыи оуби Стослава пославъ в горѣ Оугорьстѣи бѣжащю єму въ Оугры [121] ПСРЛ. Т. I. Л., 1926. Стб. 139.
.
Здесь возникает несколько вопросов разного уровня, относящихся как к пространству текста, так и к пространству исторического факта. Почему именно Святослав, а не, скажем, его единокровные братья Мстислав или Судислав, оказывается столь желанной мишенью для убийц, что ради его умерщвления снаряжается специальная экспедиция в достаточно удаленные края? Почему в то же время рассказ о Святославе не становится предметом дальнейшей рефлексии ни в летописи, ни в агиографической традиции? Почему он целиком обойден вниманием канонизационной практики, чем его жизнь и смерть отличались от жития и кончины Бориса и Глеба? [122] Существующие исследования сосредоточены по преимуществу на той книжной перспективе агиографов, в рамках которой двоичный культ как будто бы оказывается предпочтительнее культа троичного. Сама по себе эта аргументация едва ли может быть сочтена достаточной, скорее, она демонстрирует модель, благодаря которой к лику святых был причислен не один из братьев-мучеников, но оба, и в целом отчасти напоминает объяснение задним числом. Вообще говоря, агиография предоставляет множество образцов для совокупного почитания трех сомучеников, и в церковной традиции мы не найдем препятствий для умножения этого числа. Что еще более существенно, объяснения подобного рода вовсе не касаются причин самого факта убийства Святослава.
Окончательного ответа на эти вопросы не существует, тем более что летописные сведения о Святославе крайне скудны и не всегда надежны. Однако пытаясь в них разобраться, исследователь сталкивается с целым рядом дополнительных загадок, на этот раз загадок ономастических, самое существование которых, быть может, способно приблизить нас к пониманию причин столь странной посмертной судьбы этого князя.
Времена, когда Владимир Святой выбирал имена для своих сыновей, можно с некоторой долей условности назвать эпохой, когда Рюриковичи еще не были Рюриковичами, а вернее, еще не стремились осознать себя таковыми. Прибегая к подобной характеристике, мы, разумеется, не пытаемся оспорить летописную версию происхождения династии и не выражаем сомнения в том, что крестивший Русь Владимир был правнуком призванного из-за моря варяга Рюрика, но, скорее, хотим подчеркнуть некоторые весьма выразительные особенности его ономастической стратегии. В самом деле, ни одному из своих наследников Владимир – сколько мы можем судить по источникам – не дал ни имени этого своего прадеда ( Рюрик ), ни имени собственного деда ( Игорь ). Произошло это отнюдь не из-за недостатка «человеческого материала»: согласно летописи, у Владимира было по меньшей мере 12 сыновей, и, нарекая их, он существенно обогатил ономастический фонд династии. Семь из впервые введенных им в оборот антропонимов ( Изяслав, Ярослав, Святополк, Мстислав, Всеволод, Борис, Глеб ) закрепились в династии как минимум на два ближайших столетия. Они составляют треть от того весьма ограниченного набора собственно родовых имен, который считался пригодным для его потомков.
Читать дальше