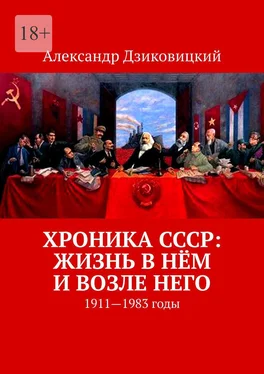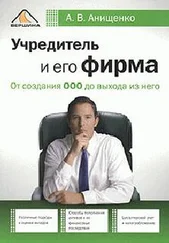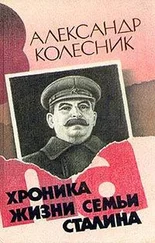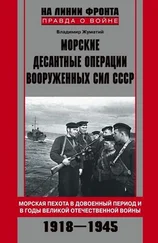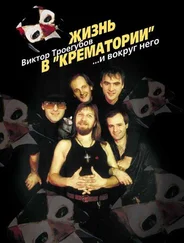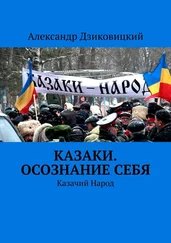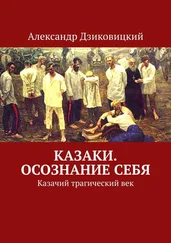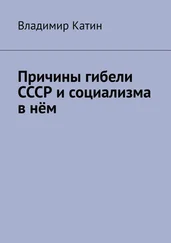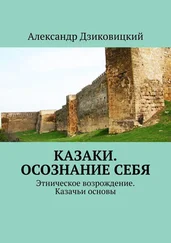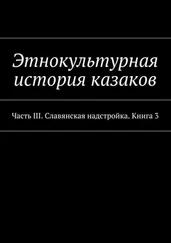Таким образом, под давлением внешних обстоятельств, Геннадий постепенно расставался со своими юношескими иллюзиями относительно «светлого будущего» и в условиях социальной прострации общества 1930-х годов вынужден был замкнуться на самом себе.
* * *
Как говорят, наша жизнь – это цепь случайностей. Геннадий подошёл уже к тому возрасту, когда пора было подумать о создании семьи. Случайно Геннадий попал на службу в Забайкалье, случайно не уехал и остался здесь на стройке. Так же случайно познакомился и с девушкой, которая стала его женой. А произошло это так.
На стройке работала бойкая девчушка – Граня (то есть Глафира) Трофимова. Вообще-то её имя, данное при рождении, было Агафья, но она считала его слишком «простонародным» и потому всюду представлялась «более благородным», как ей казалось, именем Глафира. Точно так же она поступила со временем и со своим отчеством, переименовав себя из «Перфильевны» в «Петровну».

В моём распоряжении оказался фотографический снимок предположительно 1919 года, правда, очень неважно сохранившийся, из-за чего пришлось даже его немного образать. На нём – три женщины в традиционном семейском одеянии, как тогда ходили в Забайкалье вне полевой работы все женщины-старообрядки: блузка, сарафан с фартуком, на головах – кичка (головной убор замужней женщины), на шее янтарные бусы. Справа – Павлина Антоновна Калашникова, рядом с которой её старший сын Фёдор и дочь Агафья.
Глафира-Агафья была на стройке секретарём комсомольской ячейки и Геннадий познакомился с ней вначале в связи со своими общественными делами. Ей в 1936 году было всего 20 лет, хотя в своё время она в документах прибавила себе лишних 2 года. Была она из простой семьи, коренная забайкалка из соседнего села Хонхолой, о котором уже говорилось в этой главе чуть выше. Мать её Павлина Антоновна была из семейской фамилии Калашниковых, 1881 года рождения, и всю свою долгую жизнь придерживалась староверческого вероучения. Павлина Антоновна прожила, практически не болея, до 83 лет. А дедушка по матери был зверовщик – профессиональный охотник – и славился необыкновенной силой: он спокойно брал два мешка зерна по два пуда каждый (общий вес – 64 килограмма) и пешком относил их за несколько километров на мельницу. Здесь же, в Хонхолое, жил брат матери дядя Ларион, у которого было четверо сыновей. Они жили одним общим домом, имея крепкое, зажиточное хозяйство, но в период репрессий 1930-х годов всю семью дяди Лариона «раскулачили» и выслали из села.
А. М. Селищев писал: «Семейские – народ рослый, здоровый, красивый. Нередки старики и старухи 80 – 90 лет. Но молодое поколение уже мельчает. По цвету кожи и волос отметим следующее. Наряду с великорусским светлым типом встречаются и смуглолицые, с большими карими глазами. „Смотри, какие мы чумазые, – заметил мне один старик в Тарбагатае. – Верно, повелось так от хохлов, когда деды наши в Польше жили“». Тут надобно сказать, что Глафира Трофимова была как раз этого последнего типа.
Отец Глафиры – Перфилий Трофимов – тоже жил в Хонхолое, но был из забайкальских казаков, не семейский. Забайкальские казаки, как, впрочем, и амурские, отпочковавшиеся от Забайкальского Казачьего Войска, носили своё особое прозвание – гураны. Такое имя они получили потому, что свои папахи шили не из овечьих шкур, как в большинстве казачьих Войск, а из шкур диких козлов – гуранов. Дети его запомнили слабо, так как он исчез бесследно в начале 1920-х годов. Возможно, он разделил судьбу многих других забайкальских казаков, примкнувших к атаману Семёнову, сражавшемуся против большевиков, и сложивших свои головы в бескрайних степях или в тайге Забайкалья. Единственное, что осталось о нём в памяти, так это то, что он был прекрасным гармонистом, его часто приглашали на всевозможные пьянки-свадьбы-гулянки и он настолько утомил своей гульбой богобоязненную и благонравную жену-старообрядку, что она сбежала от него, прихватив с собой трёх маленьких детей.
В 1932 году в Чите Граня (Агафья-Глафира) окончила советскую партийную школу и сразу после этого была откомандирована на стройку. Не прошло и полгода с начала их знакомства, как Геннадий и Граня поженились. Таким неожиданным образом судьба соединила потомков людей, полторы сотни лет назад покинувших пределы Великого княжества Литовского и, кроме того, сплела в один узелок шляхетский и казачий корни.
Читать дальше