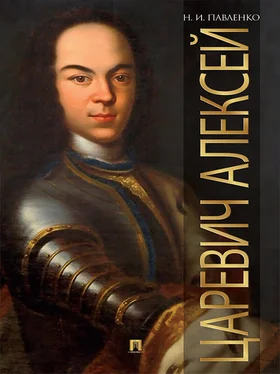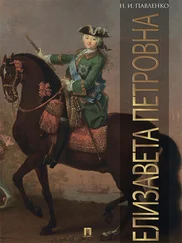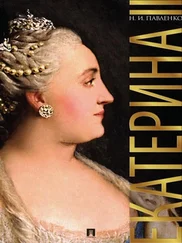Помимо властного характера Яков Игнатьев обладал дарованием превосходного психолога. Он быстро уловил слабые свойства натуры своего подопечного: знал, когда в полной мере можно использовать власть, а когда надобно проявить снисходительность, ласку. Яков Игнатьев полностью подчинил себе царевича, добившись от него беспрекословного повиновения во всем, — царевич дал письменное обязательство «во всем слушать и покоряться». Но покорность достигалась не грубым давлением, а внушением, авторитетом, разумными советами наставника. Короче, духовник стал сокровенным другом царевича, от которого у него не было тайн. 27 апреля 1711 года царевич писал ему из Варшавы: «Самим истинным Богом засвидетельствую, что не имею во всей России такого друга и скорби о разлучении, кроме вас». А далее следовали слова, совершенно непристойные для наследника русского престола, даже если они были написаны в состоянии сильного душевного волнения: «…Аще бы вам переселение от здешних к будущему случилось (то есть смерть. — Н. П. ), то уже мне весьма в Российское государство не желательно возвращение». Так высоко ценил Алексей Петрович дружбу с духовником и так низко оценивал свою привязанность к стране, которой ему предстояло управлять.
Однако что более всего поражает в переписке Якова Игнатьева, да и вообще всей «компании» царевича Алексея, так это отсутствие в ней всякой информации о происходивших в стране бурных событиях. Когда читаешь их письма, то создается впечатление, что в России в те годы не происходило ничего особенного: текла спокойная жизнь, без всяких потрясений, о которой нечего было и сообщить, ибо она была одинаково бесцветной как в столице, так и в глубокой провинции. В письмах своих корреспондентов ни Яков Игнатьев, ни царевич Алексей не могли обнаружить сведений ни о победах на театре военных действий, ни о появлении в основанном Петром Санкт-Петербурге торговых кораблей, ни о новых учебных заведениях, ни о появлении новых промышленных предприятий. Это можно объяснить либо враждебным отношением окружения царевича к новшествам, либо узостью кругозора окружавших его людей, а скорее всего — и тем и другим.
Содержание писем царевича к духовнику, как, впрочем, и к другим лицам, убеждает, сколь мелки были интересы Алексея и его приближенных. Речь идет почти исключительно о пирушках и попойках.
В письме от 11 марта 1707 года царевич писал из Жолквы в Москву членам «компании»: «Пожалуйте, повеселитесь духовно и телеснее и в письме отпишите». В другом письме из Смоленска он же наставлял «компанию», как надо веселиться: «А мы вчера повеселились изрядно, отец мой духовный Чиж чуть жив отшел до дому, поддержим сыном; такоже и протчие поджарилися». В третьем письме, отправленном в 1711 году, уже после отъезда за границу, из Вольфенбюттеля: «Веселились духовно и телесно и про ваше здоровье пьем — не по-немецки, но по-русски». В другой раз: «И мы по-московски пьем в поминанье прежде бывших с вами благ».
Впрочем, порой царевич проявлял любопытство к событиям, происходившим в стране, — но лишь к тому, что могло изменить его собственное положение и, по его мнению, приблизить его вступление на престол. Его не интересовали ни успехи в войне, ни преобразовательные начинания отца во внешнеполитической, хозяйственной, административной сферах. Внимание царевича было приковано к новостям, порою недостоверным, но свидетельствовавшим о недовольстве подданных правлением отца: чем хуже шли дела в России, чем больше невзгод приходилось на долю Петра, тем лучше было для него, сына и наследника престола.
Так, особый интерес царевича вызвало событие, связанное с указом Петра о введении в стране института фискалов во главе с обер-фискалом Нестеровым. Учреждая в 1711 году эту должность, царь надеялся при помощи фискалов одолеть такие пороки русской действительности, как взяточничество и казнокрадство, причем из личной неприязни или пользуясь непроверенными слухами, фискал мог оклеветать любого подданного и за неправый донос не нес никакой ответственности. Это вызывало возмущение прежде всего купцов, подрядчиков, чиновников, а также сенаторов, чья канцелярия была завалена правыми и неправыми доносами, подлежавшими разбирательству.
Рязанский митрополит Стефан Яворский, местоблюститель патриаршего престола, осмелился выступить в 1712 году с проповедью в Успенском соборе Кремля с критикой указа, узаконившего полный произвол фискалов. Под свое выступление митрополит подвел теоретическую базу: «Закон Господень непорочен, а законы человеческие бывают порочны». Далее митрополит обрушился на пункт указа, освобождавший фискала от наказания за ложный донос: «А какой ми то закон, например: поставите назирателя над судами и дати ему волю, кого хочет обличити, да обличит, кого хочет обесчестити, да обесчестит, поклеп сложить на ближнего судию, вольно то ему; а хотя того не доведет (не докажет. — Н. П. ), о чем на ближнего своего клевещет, то за вину не ставить, о том ему и слова не говорить: вольно то ему. Не тако подобает сему быти: искал он моей главы, поклеп на меня сложил, а не довел, пусть положит свою голову; сеть мне скрыл, пусть сам ввязнет в узкую; ров мне ископал, пусть сам впадет в он, сын погибельный, чужою бо мерою мерите. А то какова слова ему ни говорити, запинает за бесчестие. А какой же закон порочен или непорочен, рассуждайте вы: я о законе Господне глаголю».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу