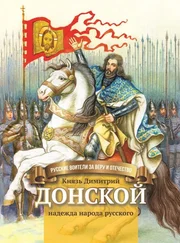После описания грабежей в летописи следует довольно значительное по объему описание «плача великого», стоящего на Руси, по разоренной столице. Описание плача является характерной деталью практически всех средневековых сочинений, содержащих информацию о подавлении и разграблении Руси захватчиками, это связано с тем, что для средневекового автора беды были поучительнее, а значит, и важнее успехов – они лучше заставляли вспомнить о грехах человеческих и о долге перед Богом… Да и писалась повесть о Тохтамыше около 1390 года, когда разорение Москвы было памятным.
Впрочем, торжество Тохтамыша было недолгим. Против хана выступил серпуховской князь Владимир Храбрый, которому некоторые исследователи даже приписывают прозвище Донской, что связано с его геройством на поле Куликовом.
«А князь Владимир Андреевич, собрав воев много вокруг себя, встал и ополчился близ Волока. И там какие-то татары наехали на него; он же прогнал их от себя. Они же прибежали к Тохтамышу-царю, устрашенные и побитые. Царь же, услышав, что князь великий на Костроме, а князь Владимир у Волока, поостерегся, ожидая на себя нападения. Потому-то он немного дней простоял в Москве, но взяв Москву, быстро ушел». За это пришлось расплатиться Олегу Рязанскому: «Царь же переправился через Оку, и взял всю Рязанскую землю, и огнем пожег, и людей посек, а полон повел в Орду, множество бесчисленное. Князь же Олег Рязанский, то видя, побежал».
Так ордынцы возместили себе недобранное в Московской земле – а Олег получил возможность убедиться, что победы московского соперника гораздо выгоднее для Рязани, чем поражения… «Пуще ему стало и татарской рати», – с удовлетворением отмечает летописец чуть далее, описывая уже поход московских дружин на Рязань. Но Москве это частичное отмщение не могло вернуть погибших и угнанных.
Однако вне зависимости от разнящихся летописных деталей, приводимых нами по двум источникам и указывающих на причины того, почему князь Дмитрий не собрал войско для сопротивления Тохтамышу, лейтмотив этих источников один – «не захотел встать против самого царя».
Надо сказать, что довольно логичные умозаключения по поводу нашествия в 1382 году хана Тохтамыша на Москву многих историков как прошлого, так и настоящего разбились в щепки именно об эту сакраментальную фразу как о риф – «не захотел встать против самого царя».
Однако ее интерпретация в христианском ключе вскрывает для нас одну простую, но очень важную деталь, а для средневекового автора проводит определенную черту, заступить за которую он не мог даже ради достоверности изложения.
Шел 6810 год от сотворения мира (1382), что в соответствии с пророчеством означало наступление 8-го дня Творения, когда на землю должен был вновь прийти Иисус Христос, чтобы открыть праведникам врата в жизнь вечную. Опять же цифра 8 – символ вечности.
По логике летописца, Тохтамыш – праведный царь, соответственно сопротивление праведнику может расцениваться как сопротивление Воле Божьей и караться по Закону Божьему, а ко всему прочему грешник еще и не войдет в Царство вечное. Таким образом, летописец просто «не мог» позволить великому князю, праведнику и спасителю веры христианской, в 8-й день Творения пойти против воли Божьей и сразиться с праведником Тохтамышем, тем самым преграждая всему народу русскому дорогу в Царство Божье. По логике, что, собственно, и наблюдается в источниках, великий князь Дмитрий не должен встать против праведного царя – «не захотел встать против самого царя».
«Когда же ушли татары, потом, спустя немного дней, князь великий Дмитрий Иванович и брат его, князь Владимир Андреевич, со своими боярами въехали в свою отчину, в град Москву. И увидели город взятый и огнем пожженный, и церкви разоренные, и людей мертвых множество бесчисленное лежащими, – и очень опечалились из-за этого, так что и расплакались оба; и повелели тела, трупы тех мертвецов, хоронить…»

Насчитали 12 тысяч погибших… Москва была вынуждена вновь смириться перед Ордой. Дмитрий стал платить дань, а Тохтамыш спустя некоторое время признал его законным князем. Окончательное освобождение русских княжеств произойдет спустя сто лет, в 1480 году, уже при правнуке Дмитрия Донского Иване III.
Последние годы правления Дмитрия не отмечены уже знаменитыми воинскими свершениями. Однако великому князю еще не раз пришлось воевать, оберегая попавшее под сомнение после нашествия Тохтамыша первенство Москвы. Самым крупным был поход на Великий Новгород в 1386 году, закончившийся выгодным для Москвы миром и практически без потерь для великокняжеского войска.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
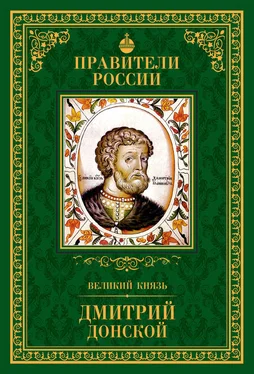

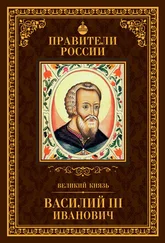
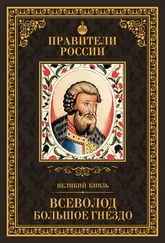
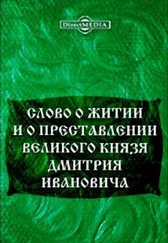

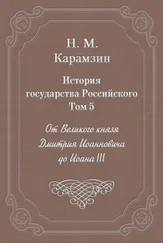
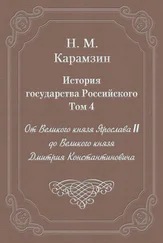
![Юрий Лощиц - Дмитрий Донской, князь благоверный[3-е изд дополн.]](/books/195967/yurij-lochic-dmitrij-donskoj-knyaz-blagovernyj-3-thumb.webp)