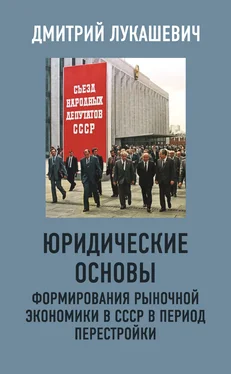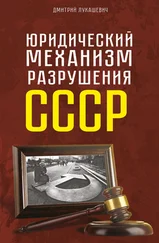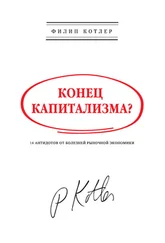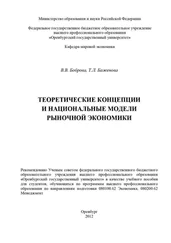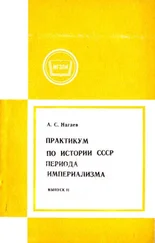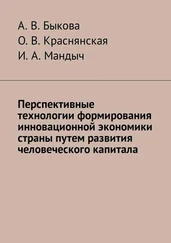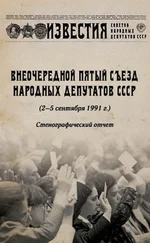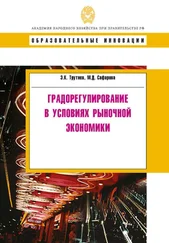Положение закона о кооперации о возможности учреждать кооперативные банки было отрицательно воспринято Госбанком СССР, который справедливо указал, что данная норма противоречит Постановлению ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 821, предусматривающему монопольное осуществление Госбанком СССР централизованного планового управления денежно-кредитной системой страны, проведение единой кредитной политики государства и координацию деятельности специализированных банков. На этом основании Госбанк СССР предложил прописать в законе о кооперации норму, согласно которой кооперативный банк осуществляет кредитно-расчетное обслуживание кооперативов в порядке и на условиях, определяемых Госбанком СССР [181].
Рыночное содержание создаваемых кооперативов предопределялось также тем, что при подготовке закона о кооперации в СССР разработчиками детально анализировался и учитывался опыт, в первую очередь, капиталистических стран [182]и лишь затем – социалистических [183]. В справке «Роль кооперации в экономике капиталистических стран» [184]указывалось, что за рубежом кооперативы имеют полную свободу – государство практически не вмешивается в деятельность кооперативов, а существующие формы воздействия являются сугубо экономическими – через налоги, кредиты и т. д. [185]Более того, государство экономически поощряет кооперативную деятельность, устанавливая льготное налогообложение и предоставляя субсидии [186]. В СССР государство лишь посредством налогообложения пыталось регулировать уровень цен, используемых кооперативами – в 1989 г. для кооперативов были установлены налоговые льготы по налогу на прирост средств, направляемых на оплату труда. Если кооператив реализовывал свою продукцию, работы и услуги по ценам, не выше государственных, то он получал льготу в виде понижения налога на 20 %; если ниже государственных – на 30 % [187].
Советское государство также иными способами активно поддерживало кооперативное движение, правда, часто это делалось за счет различных отраслей экономики или в ущерб им. Например, 5 мая 1989 г. решением Госплана СССР из агропромышленного сектора были изъяты и переданы Центросоюзу для продажи кооперативам: 20 тысяч тракторов, 10 тысяч грузовых автомобилей, 1100 экскаваторов, 1677 бульдозеров [188]. Также при подготовке закона о кооперации предлагалось учредить Государственный банк для финансирования и развития кооперации, который открывал бы специальные счета для различных видов и типов кооперативов [189].
Практика функционирования кооперативов показала, что предоставленный им по закону правовой статус использовался для злоупотреблений и только усугублял разбалансированность рынка. Например, во многих кооперативах были необоснованно высокие заработные платы сотрудников и членов кооператива (до 3600 руб. и выше); процветала спекуляция в виде перепродажи купленной по государственным ценам продукции, причем наценки на продукцию достигали 1500 %; сами кооперативы в большинстве случаев были нацелены не на производство товаров и оказание услуг, а именно на посредническую спекулятивную деятельность с целью получения быстрой наживы [190]– негласным лозунгом кооперативов было «делать не товары, а деньги», что в итоге привело к углублению товарного дефицита и росту хозяйственной преступности [191]. Кооперативы уклонялись от уплаты налогов, нарушали порядок распределения доходов [192], выпускали продукцию низкого качества [193]. Распространенной была практика создания кооперативов на базе государственных предприятий не с целью дополнительного производства товаров, а с целью реализации произведенной предприятием продукции не по государственным, а по свободным ценам [194]. Стремление быстрой наживы приводило не к направлению прибыли на дополнительное производство, а к её переводу в заработную плату – с каждого заработанного рубля 70–90 % шли на доходы кооператорам. В результате выпуск продукции, например, легкой промышленности был в 7 раз меньше, чем на аналогичных государственных предприятиях [195].
Для борьбы со спекуляцией, осуществляемой кооперативами, Верховный Совет СССР принял специальное постановление, которое, однако, не изменило коренным образом ситуацию [196].
Кооперативы активно пользовались банковским кредитом, предпочитая при этом его не возвращать, – например, в Латвии в 1988 г. республиканским банком было выдано кооперативам 156 миллионов кредитных рублей, а возвращено заемщиками только 11,6 миллионов рублей, то есть около 7,5 %; за первое полугодие 1989 г. кооперативы получили кредитов на сумму 273 миллиона рублей, а вернули лишь 13,8 миллионов рублей, то есть примерно 5 % [197]. В Москве в 1988 году кооператоры взяли 311 миллионов рублей в кредит, а вернули 12 миллионов рублей, то есть 3,85 %, в начале 1989 г. – взяли 976 миллионов руб., а отдали 38 миллионов рублей, то есть 3,89 % [198]. Это, с одной стороны, означало фактически безвозмездное финансирование кооперативного движения, с другой стороны, – банкротство самой идеи кооперативов как формы предпринимательства, с помощью которой активно произойдет насыщение пустующего рынка товарами.
Читать дальше